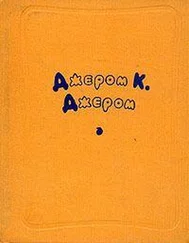Генерал немного помолчал, с восхищением и состраданием глядя на побледневшее лицо молодого офицера, потом другим тоном прибавил:
— Но, быть может, его величество отнесется к вам снисходительно, ввиду проявленной вами храбрости, к счастью, увенчавшейся успехом. Ждите его милостивого решения.
— Его величество, — заключил свой рассказ поручик, — отнесся ко мне не только милостиво, но даже сверхмилостиво, пожаловав меня кавалером ордена Железного Креста. Но я сознавал и сейчас сознаю, что, в сущности, вовсе не заслужил этого отличия, почему и прячу его, чтобы оно не напоминало мне о моей трусости, непростительной для офицера.
Немец, рассказавший мне этот анекдот, сам сильно смахивал на отставного военного, поэтому я не без основания подозреваю, что он-то и был героем анекдота.
Под протоколом от 14 ноября нет подписи Брауна, потому что еще ранее он перестал бывать у меня. Из протокола от 24 декабря видно, что Мак-Шонесси сделал нам пунш по «собственному» рецепту; от этого пунша вся рождественская неделя была для нас испорчена: все трое, не исключая и самого изготовителя, страдали почти непрекращающейся рвотою, и не попади мы в руки опытного врача, нам, пожалуй, не дотянуть бы и до Нового года.
Запись под числом 8 февраля свидетельствует, что из состава нашего литературного товарищества выбыл еще один член — Мак-Шонесси. Джефсон в этот вечер превзошел самого себя в красноречии, когда наша беседа зашла на тему значения литературы вообще. Эта тема не раз уже обсуждалась нами на наших первоначальных «пленарных» заседаниях, но никогда еще Джефсон не говорил с таким воодушевлением и с такою всеисчерпывающею силой, как именно в этот вечер, почему я и считаю нелишним привести его блестящую речь целиком.
— Мне страшно надоело вечное кудахтанье о книгах, — говорил он, — надоели эти длинные столбцы критических заметок о книгах; толстые книги о книгах; крикливые похвалы одним автором и такие же крикливые порицания другим; глупейшее поклонение новеллисту Тому, не менее глупое оплевывание поэта Дика и ядовитое глумление над драматургом Херри. Во всем этом нет ни честности, ни даже смысла. Слушая господ критиков, этих самозванных верховных жрецов культуры, можно подумать, что человек существует для литературы, а не литература — для человека. Мысль работала за несколько уж тысячелетий до изобретения книгопечатания, и те люди, которые написали лучшие книги, не нуждались в услугах критиков. Книги имеют свое место в мире, но не они цель его создания. Книги не самодовлеющи, а представляют собою лишь известные предметы обихода, наряду с бычачиной и бараниной, с запахом моря, с прикосновением руки, с воспоминанием о несбывшейся надежде и всеми другими явлениями того или иного порядка в нашей грустной жизни. Между тем мы говорим о книгах так, точно они представляют собою голос жизни, а не слабое лишь его отражение. Рассказы хороши, когда они действительно только рассказы, — хороши как первые подснежники после долгой зимней спячки природы, как карканье галок и ворон при заходе солнца. Но мы давно уже не пишем настоящих рассказов, а взялись за составление «человеческих документов» и за анатомирование человеческих умов и душ…
Джефсон круто оборвал свою речь и, выпустив несколько огромных клубов дыма, продолжал возбужденным тоном:
— Знаешь, дружище, что напоминают мне те бесчисленные «психологические этюды», которые нынче в таком ходу? Обезьяну, ищущую у другой обезьяны паразитов… В самом деле, что именно показывает нам анатомирующее перо? Человеческую природу, скажешь ты? Нет, оно обнажает перед нами лишь уродливые уклонения этой природы, и больше ничего.
Есть история об одном пожилом бродяге, который, в силу несчастливо сложившихся для него обстоятельств, попал в тюрьму. Там его два раза в день купали с целью смыть с него накопившуюся десятилетиями грязь и кстати узнать его настоящий вид. Целую неделю продолжалось это купанье, пока, наконец, не добрались до открытия, что на нем надета такая плотная фланелевая рубашка, но ни вода, ни мыло и никакие другие пособия не могли помочь возившимся с ним людям открыть то, что таилось под этой рубашкой, кроме новых, уже несмываемых слоев грязи.
Этот бродяга символизирует для меня совершенное человечество. Оно так долго носило на себе нагромождения всяких условностей, что, в конце концов, они так слились с ним в одно целое, что совершенно невозможно различить, где кончаются наслоения привычек и где начинается настоящий человек. Наши добрые свойства объявляются простым манерничаньем, а наши пороки — естественными и неотъемлемыми от человеческой сущности. Вкусы прививаются нам насильственно, а чувства предписываются по заранее составленным рецептам. Насилуя себя мы научаемся курить сигары и трубку и пить виски, заниматься классической музыкой и корпеть над руководствами к изучению наук и искусств.
Читать дальше