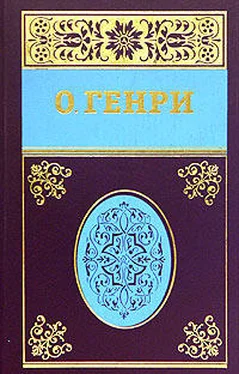— Не знаю, — твердо ответил Дан. — Мой поверенный говорит, что у меня два миллиона.
— Если бы у тебя было сто миллионов, — пылко воскликнул Кенвиц, — ты не был бы в состоянии уплатить тысячной доли того, что было исторгнуто. Нет возможности постигнуть размеры зла, вызванного преступно примененным богатством. Каждый грош, вытянутый из тощего кошелька бедняка, реагировал в тысячу раз ему во вред. Ты этого не понимаешь. Ты представить себе не можешь, насколько бесполезны твои стремления к расплате. Даже одного-единственного потерпевшего мы не в состоянии удовлетворить.
— Брось, философ! — заметил Дан. — Нет такого горя у цента, которого нельзя было бы залечить долларом.
— Ни одного, — повторил Кенвиц. — Я познакомлю тебя с одним, и ты увидишь. Томас Бойн имел небольшую пекарню там, на Верик-стрит. Его клиентура состояла из беднейшего люда. Когда поднялась цена на муку, ему пришлось поднять цены на хлеб. Его покупатели были слишком бедны, чтобы платить повышенную цену. Дела его пошатнулись, и он потерял свой капитал — тысячу долларов — все, что у него было.
Дан Кайнсолвинг мощно ударил кулаком по скамье.
— Принимаю этот случай! — воскликнул он. — Веди меня к Бойну. Я верну ему его тысячу долларов и куплю ему новую пекарню в придачу.
— Напиши чек, — сказал, не двигаясь с места, Кенвиц, — и затем продолжай выписывать чеки в возмещение за все последствия. Следующий чек напиши на пятьдесят тысяч долларов. После банкротства Бойн сошел с ума и поджег дом, из которого его хотели выселить. Убытков было на эту сумму. Бойн умер в доме умалишенных.
— Держись случая с Бойном, — сказал Дан. — Страховые общества не значатся в моем благотворительном списке.
— Пиши затем чек на сто тысяч, — продолжал Кенвиц. — Сын Бойна пошел по дурной дороге, когда закрылась пекарня, и был обвинен в убийстве. На прошлой неделе он был оправдан после трехлетнего юридического боя, и теперь штат возлагает расходы по этому делу на плательщиков налогов.
— Вернись к пекарне! — с нетерпением воскликнул Дан. — Правительству не приходится стоять в хлебной очереди.
— Есть еще одна графа, относящаяся к этому случаю… Пойдем, я покажу тебе, — сказал Кенвиц, вставая.
Часовщик-социалист ликовал. Он был миллионероедом по природе и пессимистом по ремеслу. Одним духом Кенвиц мог уверить вас, что деньги чистое зло и разврат и что ваши новехонькие часы нуждаются в чистке и новой пружине.
Он повел Кайнсолвинга к югу от сквера, на грязную, кишащую нищетой Верик-стрит. По узкой лестнице грязного кирпичного дома следовал за ним кающийся потомок спрута. Кенвиц постучался в дверь, и ясный голос пригласил их войти.
В почти голой комнате сидела за швейной машиной молодая женщина. Она кивнула Кенвицу как старому знакомому. Слабый луч солнца, пробивавшийся сквозь тусклое окно, окрасил ее густые волосы в цвет древнего тосканского щита. Она бросила Кенвицу открытую улыбку и слегка смущенный вопрошающий взгляд.
Кайнсолвинг в молчании бьющегося сердца смотрел на ее чистую трогательную красоту. Они очутились перед последней графой счета, относящегося к случаю с Бойном.
— Сколько на этой неделе, мисс Мэри? — спросил часовщик.
Гора грубых серых рубах лежала на полу.
— Почти тридцать дюжин, — приветливо ответила молодая женщина. — Я заработала около четырех долларов. Мои дела поправляются, мистер Кенвиц. Прямо не знаю, что делать с такой кучей денег.
Глаза ее открыто и мягко посмотрели на Дана. Маленькое розовое пятнышко выступило на ее бледной щеке.
Кенвиц улыбался, как сатанинский ворон.
— Мисс Бойн, — сказал он, — позвольте представить вам мистера Кайнсолвинга, сына того человека, который поднял цены на хлеб пять лет назад. Он хотел бы помочь тем, кто был обездолен этим поступком.
Улыбка исчезла с лица девушки. Она встала и указала на дверь. На этот раз она смотрела прямо в глаза Кайнсолвингу но то не был взгляд, обещающий радость.
Мужчины вышли на Верик-стрит. Кенвиц, дав волю пессимизму, возмущению и ненависти, которые он питал к спруту атаковал денежную сторону своего друга язвительным потоком речей. Дан, по-видимому, прислушивался к его словам. Вдруг он обернулся, горячо пожал руку Кенвица и сказал:
— Я очень тебе благодарен, старина, тысячу раз благодарю.
— Мейн готт! Ты с ума сошел! — воскликнул часовщик и впервые за много лет уронил свои очки.
Через два месяца после этого Кенвиц вошел в большую пекарню на Нижнем Бродвее; он принес хозяину золотые очки, которые были у него в починке.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу