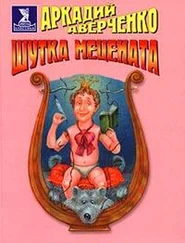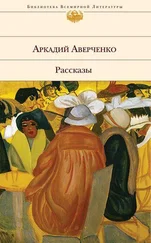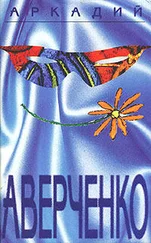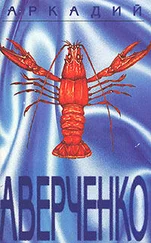Желтыя, красныя, зеленыя ленты серпантина взвиваются надъ толпой и обвиваютъ намѣченную жертву, какую нибудь черномазую модистку или простоволосую дѣвицу, ошалѣвшую отъ музыки и веселья.
На двѣсти тысячъ разбросаетъ сегодня щедрый Парижъ бумажныхъ лентъ — цѣлую бумажную фабрику; милліонъ сгоритъ на фейерверкъ и десятки милліоновъ проѣстъ и пропьетъ простолюдинъ, празднуя свой національный праздникъ.
Сандерсъ тоже не дремлетъ. Онъ нагрузился серпантиномъ, какими-то флажками, бумажными чертями и самъ, вертлявый, какъ чертъ, носится по площади, вступая съ дѣвицами въ кокетливыя битвы и расточая всюду улыбки; элегантный Мифасовъ взобрался верхомъ на карусельнаго слона и летитъ на немъ съ видомъ завзятаго авантюриста. Мы съ Крысаковымъ скромно пляшемъ посреди маленькой кучки поклонниковъ, вполнѣ одобряющихъ этотъ способъ нашего уваженія къ французамъ. Пискъ, крики, трубный звукъ и ревъ карусельныхъ органовъ.

А на другое утро Сандерсъ, найдя у себя въ карманѣ обрывокъ серпантина, скорбно говорилъ:
— Вотъ если-бы такихъ обрывковъ побольше; склеить-бы ихъ, свернуть опять въ спираль, сложить въ руло и продать за 50 сантимовъ; двадцать такихъ штучекъ изготовить — вотъ тебѣ и 10 франковъ.
Крысаковъ вдругъ открылъ ротъ и заревѣлъ.
— Что съ вами?
— Голосъ пробую. Что если пойти нынче по кафе и попробовать пѣть русскія національньія пѣсни; франковъ десять, я думаю, наберешь.
— Да вы умѣете пѣть такія пѣсни?
— Еще бы!
И онъ фальшиво, гнусавымъ голосомъ запѣлъ:
Матчишъ прелестный танецъ —
Шальной и жгучій…
Привезъ его испанецъ —
Брюнетъ могучій.
— Если-бы были гири, — скромно предложилъ я. — Я могъ бы на какой нибудь площади показать работу гирями… Мускулы у меня хорошіе.
— Неужели, вы бы это сдѣлали? — страннымъ, дрогнувшимъ голосомъ спросилъ Сандерсъ.
Я вздохнулъ.
— Сдѣлалъ-бы.
— Гмъ, — прошепталъ онъ, смахивая слезу. — Значитъ, дѣло, дѣйствительно, серьезно. Вотъ что, господа! Мифасовъ беретъ деньги на случай питанія масляными красками и кожей чемодановъ. Я заглянулъ дальше; на самый крайній, на крайнѣйшій случай, — слышите? — когда среди насъ начнетъ свирѣпствовать цынга и тифъ — я припряталъ кровные 30 франковъ. Вотъ они!
— Браво! — крикнулъ, оживившись, Крысаковъ. — У меня какъ разъ цынга!
— А у меня тифъ!
Мифасовъ сказалъ:
— Тутъ… на углу… я…
— Пойдемъ!
Грохотъ восьми ногъ по лѣстницѣ разбудилъ тишину нашего мирнаго пансіона.

Изъ альбома Крысакова. Уличные гимнасты.
Когда мы были въ «кабачкѣ мертвецовъ» и Сандерсъ, уходя, сказалъ шутовскому привратнику этого кабачка, гдѣ слуги поносили гостей, какъ могли: «прощайте, сударь», — тотъ отвѣтилъ ему привычнымъ, заученнымъ тономъ — «прощайте туберкулезный!»
Конечно, это была шаблонная шутка, имѣвшая успѣхъ въ этомъ заведеніи, но сердце мое сжалось: «что если въ самомъ дѣлѣ слабый здоровьемъ Сандерсъ заболѣетъ съ голодухи и умретъ?..»
Послѣдніе десять франковъ ухлопали мы на это кощунственное жилище мертвыхъ, будто бы для того прійдя сюда, чтобы привыкнуть постепенно къ неизбѣжному концу.
— Удивляюсь я вамъ, — сказалъ мнѣ Крысаковъ. — Человѣкъ вы умный, а не догадались сдѣлать того, что сдѣлалъ каждый изъ насъ! Припрятать деньжонокъ про запасъ. Вотъ теперь и голодай. До открытія банковъ два дня, а я уже завтра съ утра начинаю питаться верблюжьимъ хлѣбомъ.
— Чѣмъ?
— Верблюжьимъ хлѣбомъ. Въ Зоологическомъ саду верблюдовъ кормятъ. Я пробовалъ — ничего. Жестко, но дешево. Хлѣбецъ стоитъ су.
— Ну, — принужденно засмѣялся я. — У васъ, вѣроятно, у кого нибудь найдется еще нѣсколько припрятанныхъ франковъ — «уже на самый крайній случай — чумы или смерти».
— Я отдалъ все! — возмутился Мифасовъ. — Запасы имѣютъ свои границы.
— И я.
— И я!
— Я тоже все отдалъ, — признался я. — Натура я простодушная, безъ хитрости; я не позволю утаивать что нибудь отъ товарищей «на крайній случай». А тутъ — чѣмъ я вамъ помогу? Не этой же безполезной теперь бумажонкой, которая не дороже обрывка газеты, разъ всѣ мѣняльныя учрежденія закрыты.
И я, вынувъ изъ кармана русскую сторублевку, пренебрежительно бросилъ ее на-земь.
Читать дальше