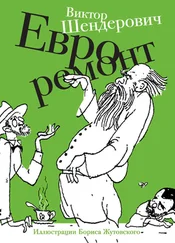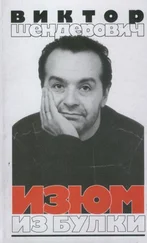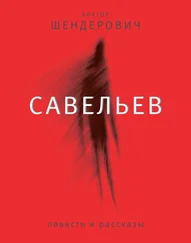С чувством юмора у Табакова всегда было хорошо. А у меня, видимо, не всегда, — потому что к будущей роли Лира я отнесся с немыслимой основательностью! Все лето штудировал Шекспира, до кучи прочел все примечания к трагедии, а уж сам монолог в пастернаковском переводе вызубрил так, что до сих пор помню его от корки до корки… «Дуй, ветер, дуй, пока не лопнут щеки!..»
К октябрю никто, кроме меня, про Шекспира не помнил, но я настоял на исполнении. То ли бурей, то ли настырностью мне удалось напугать Олега Павловича — и я был принят в «режиссерскую группу» студии.
С осени 1974 года мы оккупировали Бауманский дворец пионеров на улице Стопани — имя этого коммуниста до сих пор отзывается во мне бессмысленной нежностью.
Мир за пределами студии потерял всякое значение, съежился и исчез.
Поначалу нас было сорок девять человек, не считая педагогов, которых тоже было немало. Табаков пообещал:
— Будете отпадать, как груши!
И мы отпадали.
Исключение из студии было настоящей драмой — с рыданиями и ощущением конца жизни. Присутствие в этом магнитном поле заряжало всерьез — опять-таки, на всю жизнь.
Валентин Гафт называл нас «цыплятами Табака», но больше мы напоминали саранчу. Неся как штандарт табаковское имя, мы прорывались в театр «Современник» — и выкурить нас из-за кулис было невозможно. Да и как в шестнадцать лет уйти оттуда, где обитают и проходят мимо тебя по узкому закулисному коридору Даль, Неелова, Богатырев или Евстигнеев?
«На дне» я смотрел, наверное, раз пять, «Двенадцатую ночь» — не меньше двенадцати уж точно…
Одно из потрясений юности — «Валентин и Валентина» с Райкиным и Нееловой. Потрясение это было огромным и печальным. Огромным — потому что я находился в возрасте рощинских персонажей и все это было мне безумно близко. А печальным — вот почему…
После спектакля я помчался на служебный вход, чтобы поблагодарить Райкина. Я отловил его на выходе и что-то говорил, вцепившись в рукав, когда из лифта вышла Неелова.
— Пока, Костя! — на ходу бросила она.
— Пока, — ответил Костя совершенно бытовым образом.
А пять минут назад они стояли на сцене вместе — да так вместе, что представить их врозь было невозможно! И художественный обман показался мне обманом человеческим…
«Ничего не может случиться…»
За укрепление дисциплины педагоги студии начали бороться за восемь лет до Андропова.
«Уважительной причиной для неявки на репетицию является смерть», — сформулировал добрейший Андрей Борисович Дрознин.
Педагог Поглазов приводил в пример своего друга и однокурсника Константина Райкина.
— Я знаю его восемь лет, — говорил Владимир Петрович. — Пять лет в училище и три в театре. И ни одной пропущенной репетиции!
— Но ведь человек может заболеть, — сказал кто-то.
— Актеры не болеют, — парировал Поглазов.
— Но ведь может что-нибудь случиться!
— Ничего не может случиться, — назидательно ответил Владимир Петрович.
Дальше было как в плохом кино, но было именно так. Дверь открылась, и, что называется, на реплику вошла наша студийка, Лена Антоненко.
Вошла и сказала:
— Райкин сломал ногу.
…Во время репетиции «Двенадцатой ночи» Костя решил показать Валентину Никулину, как надо съезжать с тамошней конструктивистской декорации, и приземлился неудачно.
Отдельным кадром в памяти: загипсованный Костя сидит на подоконнике, на лестничной клетке в больнице Склифосовского; рядом — Марина Неелова и Юрий Богатырев…
Год на дворе — 1975-й.
Шахматная секция Дворца пионеров оккупирована для читки пьесы Володина «Две стрелы». Читает нам ее Олег Табаков.
Через час я пробит этими стрелами насквозь; целый год сердце бешено колотится при одном упоминании персонажей. Фамилия автора пьесы мне ничего не говорит, но я хорошо представляю себе лицо человека, написавшего такое: Леонардо, Софокл…
Проходит два года, мы уже студенты; место действия — подвал на улице Чаплыгина. Репетируем «Стрелы».
Однажды в наш двор приходит старичок с носом-баклажаном.
— Саша, — говорит старичку Табаков, — проходи…
Это — Володин? Я страшно разочарован.
С тех пор время от времени драматург сидит на наших репетициях, в уголке. Иногда Табаков просит его что-то дописать: он своими словами обозначает контур диалога, и Володин тут же начинает диктовать, а мы записываем.
Каким-то до сих пор непостижимым для меня образом диктуемое сразу оказывается частью пьесы — без швов, с характерами и даже с репризами. Герои жили в Володине, и надо было только позволить им выйти наружу…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу