Ученые, непосредственно занятые этой проблемой, говорили мне здесь, в их цитадели, что Мир может представлять собой нечто вроде швейцарского сыра, где миры, подобно дыркам, разделены причинно-следственными барьерами — то есть не плотью, а другими связями и отношениями, что миры могут быть расщепленными или сопряженными — в зависимости от различных исходных состояний вакуума. То самое, о чем писал Иосиф Шкловский: что Мир возможно представляет разветвленное, многосвязное многообразие.
Так что, если у нас исходно разные миры, исходно разные причинно-следственные связи, то, подумай, мы в самом деле можем ходить друг сквозь друга, не ощущая и не видя наших одноместников.
Я мог убедиться, что они ничего не упрощали и не мистифицировали читателя, обнародуя подобное. Тут я мог вполне успокоиться. Но меня-таки попробовали поставить «на место» молодые ребята.
Это был красивейший мир, красивейшие места. Даже на Дальнем Востоке, когда уже и мир был не сер и я мог смотреть живым взглядом вокруг, не видел я такой красоты. Океан золотых лесов, хрустальный воздух высокогорья. в сияющем небе парила птица, парили в прозрачном воздухе леса и луга, парили ручьи, парила в надгорных далях мысль. Но в этом прекрасном мире, в жилых домах, в лабораториях, под куполами обсерватории действовали локтями и словом не мягче, чем на коммунальной кухне. Они напоминали корабль на Солярисе в отличие от Дома на Земле. То же осваивание привычным бытом, привычными тупиками того, что шире — с пустотами и незнанием. Этот возможностный Мир был благ вот этой, всегда большей широтой с пустотами. у человека же — гомеостаз, внутренняя среда, аура его быта — он носит свое с собой.
В этом мире разомкнутых форм познания все бранили друг друга. Научные мужи обвиняли философов в догматичности и неконкретности, философы — ученых опять же в догматичности, но также и в том, что они подобно классическим художникам изображают неподвижный, механистичный мир, не меняющийся, с дурными бесконечностями и вечностью — птица у них не летит, а висит в небе. и человека, присовокупляли гуманитарии, в научной картине мира по сути дела нет, даже и с прибавлением наблюдателя.
Так получилось, что две или три ночи на шестиметровике я провел в группе поисковиков черных дыр, занятых вопросами гравитации, которые только близ этих фантастических объектов и можно было разрешить. Это были неудачные для них ночи — темные, в тучах. Зато я мог поболтать с ребятами. Двое из них были особенно интересны для меня: белорус-флейтист Гена и еврей-буддист и театрал Марк. Друг друга они по каким-то причинам явно с трудом терпели, но у них была общая неприязнь к журналистам-дилетантам и общие любовь и уважение к такому же молодому, как они, руководителю проекта. Бродивший в свободное от работы время по окрестным лугам и лесам флейтист был неожиданно грубоват со мной:
— Вы слушайте-слушайте, — резко оборвал он мой вопрос, — а то опять что-нибудь напутаете и изобразите.
Хотя я еще ничего не путал и не изображал.
— Не обижайтесь, — усмехался очень живой буддист. — Это он не о вас, это он о предыдущем журналисте, который трогательно изобразил, как он штопает носки жене и детям.
Меня спасало мое лагерное прошлое. Этого они не знали, в этом будто бы профессионалом был я. Они почитали меня за мою каторгу, словно это и в самом деле было моей профессией и моим творением, а не рябого Йоськи. Не знаю, кто он там для незэков в то время, а для нас всех — он рябый Йоська, душегубец и пошлая шваль. Впрочем, что это я вдруг так распалился? Шваль и шваль, однако задавить революцию на корню ему удалось — справился, гад.
Так что ребята с обсерватории не прочь были меня и послушать. Приходилось и мне делать вид, что я знаю нечто, ни в каких аналогиях не доступное им.
Буддист в отличие от флейтиста не был груб, но и он считал, что понимание того, что они делают и пытаются понять, недоступно гуманитарию. Единственный раз взглянул он на меня с любопытством, когда объяснял мне, что, наблюдая поведение вещества возле компактной черной дыры, ученые могут сделать выбор между геометрической и полевой моделями тяготения, а я подумал вслух: «Разве это не одно и то же?»
— Да вот и мне так кажется, — сказал удивленно и задумчиво космологический гений, невольно польстив мне.
И все равно: «Нет, не обижайтесь, Митмих, дело в том, что мы говорим на разных языках — слова вроде бы те же, а смысл другой. Всякое обучение, в сущности, обучение профессиональному языку, которого ты не знаешь до обучения».
Читать дальше
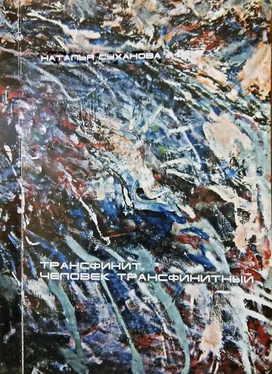








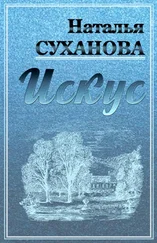
![Наталья Суханова - Анисья [СИ]](/books/430596/natalya-suhanova-anisya-si-thumb.webp)
![Наталья Суханова - От всякого древа [СИ]](/books/430598/natalya-suhanova-ot-vsyakogo-dreva-si-thumb.webp)