«Я ж тебе говорил!»
«А почему потеряли Ростов? Почему не удалось организовать защиты?»
«Ростов потеряли из-за проклятой немчуры. Не занимайся демагогией». Шигонцев грозит Шуре пальцем, качает нелепо вытянутой, со вмятинами на висках головой.
Я вспоминаю эту голову, поразившую когда-то в Питере. Теперь она выбрита, изжелта-серая после тифа. Шигонцев за год почернел, похудел, стал жестче и не так болтлив — у него пропал голос, он сипит. Едва слышно, страстным сипением поносит немецкий пролетариат, который всегда запаздывает: с революцией задержались на год, теперь волынят в Баварии, хотя Эйснер убит, надо воспользоваться…
«По сути, речь о том, — он тычет в Шуру пальцем, — как удержать наши завоевания. Неужто история ничему не учит? — И, как всегда, переполнен цитатами и примерами из французской революции. — Постановление Конвента гласило — на развалинах Лиона воздвигнуть колонну с надписью: „Лион протестовал против свободы, Лиона больше не существует“. Если казачество выступает врагом, оно будет уничтожено, как Лион, и на развалинах Донской области мы напишем: „Казачество протестовало против революции, казачества больше не существует!“ Кстати, прекрасная мысль: заселить область крестьянами Воронежской, Тульской и других губерний…»
«А почему вы так боитесь пули?» — спрашивает Браславский Шуру.
Шура ничего не боится. Каторга научила. Нет в мире ничего, достойного страха. Он болен. Он катастрофически заболевает, чего пока не знает никто, свалится к вечеру, сейчас у него жар, горит лицо. Он говорит, что дело не в страхе пули, а в страхе перед восстанием в тылу красных войск. Браславский спрашивает: сколько человек расстреляно трибуналом за три недели? Браславский — маленький, краснолицый, с надутыми щеками обиженного мальчика, возраст непонятен, то ли мой ровесник, то ли, может быть, лет сорока. На нем широкая и нескладно длинная, не по росту кожаная роба, кожаные автомобильные штаны. Взгляд странный: какой-то сонный, стоячий. Что он там видит из-под нависших век? О чем думает? И в то же время цепкое, клейкое, неотступно всевидящее в этом взгляде. Шура отвечает: «Одиннадцать».
Глаза Браславского — как две улитки в раковине красно опухших век. Раковина сжалась, улитки втягиваются вглубь. «Вы знакомы с директивой?» Шура: знаком. Смысл директивы: «расказачивание», преследование всех, кто имел какое-либо отношение к борьбе с советской властью, расстрел всякого, у кого обнаружится оружие. Шура, прочитав, сказал: «Ошибка, если не хуже! Будем раскаиваться. Но будет поздно». Какие уж там седла, повозки. Это грозный вызов казакам.
Теперь Шура говорит спокойно: знаком.
«Вы знаете, — говорит Браславский, — что я могу предать вас суду как саботажников?»
Бычин бубнит, струхнув: «Товарищ, у нас же все сделано, все наготове, люди дожидаются в залоге, я товарищу Данилову какой раз поднимал вопрос…»
Удивительно, такой здоровенный, могучий, с бугристыми кулаками и, чуть на него надавил этот маленький, с сонными глазками, сейчас же отрекается и выдает!
Все нападают на Шуру. Если б были своевременно истреблены контрреволюционеры в Старосельской, там не погиб бы товарищ Франц, австрийский коммунист, и не возникло бы такое положение, как теперь. Шура пытается возразить: бывает непросто разобрать, кто контрреволюционер, а кто нет, кто на сорок процентов поддерживает революцию, на сорок пять сомневается, а на пятнадцать страшится… Тут он пародирует Орлика… Каждый случай должен тщательно проверяться, ведь дело идет о судьбе людей… Но Шигонцев и Браславский в два голоса: дело идет о судьбе революции! Вы знаете, для чего учрежден революционный суд? Для наказания врагов народа, а не для сомнений и разбирательств. Дантон сказал во время суда над Людовиком: «Мы не станем его судить, мы его убьем!» А «Закон о подозрениях», принятый Конвентом? Подозрительными считались те из бывших дворян, кто не проявлял непрестанной преданности революции. Не надо бояться крови! Молоко служит пропитанием для детей, а кровь есть пища для детей свободы, говорил депутат Жюльен…
Для Бычина цитаты, которыми сыплет Шигонцев, все равно что треск сучьев в лесу.
«Вот кого под корень! — трясет бумагой. — Антоновы, Семибратовы, Кухарновы, Дудаковы, они свойственники того Дудакова, учителя Слабосердова в первый черед как атаманского зятя, а он на воле гуляет, хотя я товарищу Данилову какой раз говорю…»
На Слабосердове запоролись. Шура не хочет давать согласия. Непонятно, почему. Видел он учителя только раз, спорил с ним, разговаривал сердито, а уперся — ни в какую. Лицо его в пятнах, пылает зноем, глаза блестят в провалах глазниц. И рукой показывает: воды, воды! Я таскаю ему воду в глиняной кружке.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


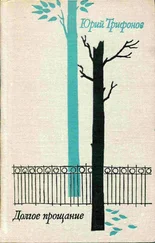


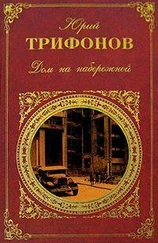
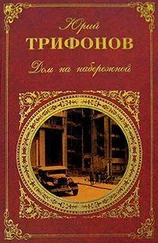
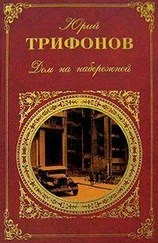




![Юрий Трифонов - Бесконечные игры [киноповесть]](/books/422559/yurij-trifonov-beskonechnye-igry-kinopovest-thumb.webp)