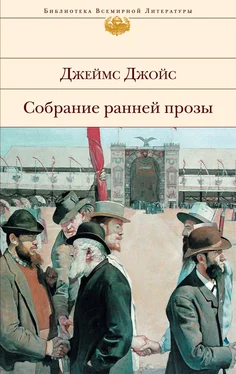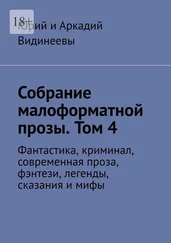Каждая часть его дня, разделенного согласно тому, что он теперь рассматривал как свои обязанности на данной духовной стадии, вращалась вокруг определенного центра духовной энергии. Его жизнь будто приблизилась к вечности — каждая мысль, каждое слово, поступок, каждое внутреннее движение могли, лучась, отдаваться на небесах — и временами это ощущение мгновенного резонанса было так живо, что ему казалось, будто каждым подвигом его душа нажимает клавиши огромного кассового аппарата и он видит, как сумма покупки мгновенно появляется на небесах не цифрой, а хрупким столбиком благовоний или нежным цветком.
Также и розарии, которые он твердил непрестанно — ибо он теперь носил четки в кармане брюк, чтобы можно было читать их, ходя по улицам, — превращались в гирлянды цветов такой неземной нежности, что они ему представлялись столь же бескрасочными и безуханными, сколь они были безымянны. Каждый из своих трех ежедневных розариев он посвящал укреплению души своей в одной из трех богословских добродетелей: в вере во Отца, Кто его сотворил, в надежде на Сына, Кто его искупил, и в любви ко Духу Святому, Кто его освятил; и эту трижды тройную молитву он обращал к Трем ипостасям через Деву Марию, во имя радостных, скорбных и славных Ее тайн.
Далее, в каждый из семи дней недели он молился о том, чтобы на душу его снисходил один из семи даров Святого Духа и дары эти день за днем изгоняли бы из его души семь смертных грехов, кои прежде оскверняли ее; и о каждом из даров он молился в назначенный для того день, с доверием ожидая, что дар сей будет ниспослан — хотя иногда ему и казалось странным, что мудрость, разумение и познание столь по своей природе различны — коль скоро о каждом из этих даров надлежит молиться особо от прочих. Однако он верил, что одолеет и это затруднение на некой высшей ступени духовного пути, когда его грешная душа восстанет из слабости и будет просвещена Третью Ипостасью Пресвятой Троицы. Этой вере его придавали трепетность и еще бо́льшую силу божественный мрак и безмолвие, в коих пребывает незримый Параклит [104] Утешитель (греч.).
, Чьи символы — голубь и всесильный вихрь, и грех против Которого не прощается, вечное таинственное и сокровенное Сущее, Кому как Богу священники раз в год служат мессу в алых, точно языки пламени, облачениях.
Образы, с помощью которых читаемые им духовные книги усиленно затемняли природу и единосущность Трех Ипостасей Троицы, — Отец, извечно созерцающий как в зеркале Свои Божественные Совершенства и присно рождающий Вечного Сына, Святой Дух, извечно исходящий от Отца и Сына, — в силу их высокой непостижимости легче принимались его умом, нежели та простая истина, что Бог любил его душу извечно, во веки веков, еще до того, как он рожден был в мир, и до того, как существовал сам мир.
Он слышал, как слова, обозначающие страсти любви и ненависти, торжественно возглашались со сцены, с церковной кафедры, читал, как они торжественно превозносятся в книгах, и его удивляло, отчего они не находят совершенно никакого пристанища в его душе и он неспособен себя заставить произносить эти слова с убежденностью. На него часто налетал мгновенный гнев, но он никогда не мог превратить его в стойкую страсть, и всякий раз ощущал, как гнев его оставляет, словно с самого его тела с легкостью слетала какая-то внешняя оболочка или шелуха. Или он чувствовал, как что-то неуловимое, мрачное, нашептывающее проникает все его существо и зажигает его греховной похотью — однако и это куда-то ускользало недосягаемо, и разум оставался ясен и безразличен. И казалось, это и были те единственные любовь и ненависть, что могли найти пристанище в его душе.
Но он не мог больше сомневаться в реальности любви, ибо Сам Бог извечно любил именно его, лично его душу божественною любовью. Постепенно, по мере того как душа его наполнялась духовным знанием, весь мир открывался ему как необъятное и стройное выражение божественного могущества и любви. Каждый миг жизни, каждое ощущение превращались в божественный дар, за который, будь то всего-навсего зрелище дрожащего на ветке листочка, душе его надлежало славить и благодарить Подателя. При всей своей сложности и весомой плотности, мир существовал теперь для его души исключительно лишь как теорема о божественном могуществе и любви и вездесущии. Это дарованное душе его чувство божественного смысла во всей природе было столь целостным и бесспорным, что он с трудом понимал, зачем ему, собственно, продолжать жить. Однако и это было частью божественного замысла, и он не смел ставить под вопрос пользу этого — тем паче что уж кто иной, как он, столь мерзко и тяжко против этого замысла согрешил. Кроткая и приниженная сознанием единого, вечного, вездесущего и совершенного бытия, душа его вновь принимала на себя бремя обетов, месс, молитв, церковных таинств и самоистязаний; и лишь теперь, впервые с тех пор, как он скорбел над великой тайной любви, он ощутил в себе теплое движение, будто зарождалась новая жизнь или добродетель самой души. Поза экстаза в духовной живописи — воздетые и разверстые руки, отверстые уста и взгляд словно на грани обморока — стала для него образом молящейся души, смиренной и замирающей пред своим Создателем.
Читать дальше