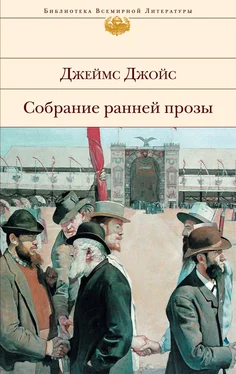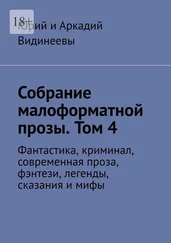Поле, заросшее сорняками, чертополохом, крапивой. Среди торчащих засохших стеблей этой растительности всюду раскиданы побитые канистры, жестянки, спирали и кучи затвердевших испражнений. Над всей помойкой поднимается слабый свет болотных огней, пробивающийся сквозь щетину серо-зеленой поросли. Зловонный дух, такой же слабый и мерзкий, как этот свет, ползет, клубясь, из жестянок, от слежавшегося дерьма.
Какие-то твари в поле; одна, три, шесть — твари движутся по полю туда и сюда. Козловатые твари с человечьими лицами, рогами во лбу, жидкими бороденками, каучуково-серые. Они бродят, передвигаются туда и сюда, волоча за собой длинные хвосты, в их мутных глазах злобный блеск. Оскалом жестокого злорадства тускло светятся их старческие костлявые лица. Один кутается в рваный фланелевый жилет, другой скулит без конца, когда в его бороденку вцепляются колючки и прутья. Невнятная речь срывается с их пересохших губ, меж тем как они со свистящим звуком кружат медленными кругами по полю, завивая туда и сюда круги среди сорных трав, задевая гремящие жестянки хвостами. Они кружат медленными кругами, все ближе, все теснее, тесней, чтобы окружить, окружить, с их губ срывается невнятная речь, свистящие длинные хвосты облеплены вонючим дерьмом, ужасающие морды задраны к небу…
— Спасите!
Он как безумный отбросил одеяло, чтобы скорее высвободить лицо и шею. Вот он, его ад. Бог дал ему увидеть тот ад, что уготован за его грехи, — злобный, вонючий, скотский — ад похотливых козлоподобных бесов. Его они ждут! Его!
Он вскочил с постели, клубок вонючего воздуха душил его горло, полз ниже, сводил кишки. Воздуха! Воздуха небес! Шатаясь, он двинулся к окну, глухо мыча, близкий к обмороку от тошноты. Около умывальника ему схватило внутренности, и он сжал руками, что было силы, холодный лоб, корчась в неудержимом приступе рвоты.
Когда приступ иссяк, он добрел с трудом до окна и, открыв его, сел подле в углу, опершись локтем на подоконник. Дождь перестал, меж светящимися точками подымались вверх испарения и желтоватая мгла облекала город коконом мягкой пряжи. Тишь была в небесах, светившихся слабым светом, воздух живителен как в чаще, омытой ливнем, и в окружении мирной жизни, мерцающих огней, легких благоуханий он дал обет своему сердцу.
Он молился:
— Некогда Он судил прийти на землю в небесной славе, но мы согрешили, и тогда поистине не мог Он уже явиться нам, иначе как скрыв завесой Свое величие и умалив сияние, ибо Он Бог. Итак, пришел Он не в силе Своей, но в слабости, и на место Свое послал тебя, создание тварное, с тою красотою и славой, что для нас восприемлемы. И ныне самый лик твой и очертанья, о возлюбленная мати, говорят нам о Вечном, и не земной красоте, опасной для взора, они подобны, но подобны звезде утренней, ставшей символом твоим, звезде ясной и мелодичной, несущей весть о небе и вселяющей мир. О дня провозвестнице и паломника светоче! Не оставь нас и впредь наставлением твоим. Во мраке ночи, в глухой пустыне укажи путь нам ко Иисусу Христу, Господу нашему, укажи нам путь в дом наш.
Глаза его застилали слезы, и, подняв смиренный взгляд к небу, он заплакал о своей утраченной чистоте.
Когда совсем стемнело, он вышел из дому. С ощущением сырой мглы, со стуком захлопнувшейся двери к нему тут же снова вернулись острые угрызения, приглушенные было слезами и молитвой. Исповедь! Исповедь! Приглушать угрызения молитвою и слезами — этого было мало. Он должен пасть на колени перед служителем Святого Духа и исповедать ему правдиво и покаянно все свои тайные грехи. Прежде чем он снова услышит, как дверь их дома, открываясь, чтобы его впустить, глухо заденет за порог, прежде чем снова увидит накрытый к ужину стол на кухне, он падет на колени и исповедается. Это же так просто.
Угрызения совести утихли, и он быстро зашагал вперед по темным улицам. На этом тротуаре множество плит, а в городе множество тротуаров, а в мире множество городов. Но у вечности вообще нет конца. Сейчас он пребывает в смертном грехе. Даже если однажды все равно смертный грех. Может случиться в одно мгновение. Но как же, так моментально? Едва увидел или подумал, что увидел. Глаза что-то видят, заранее они этого не хотели видеть. И потом раз — и готово. Но как же, эта часть тела, она что, может понимать, или как? Змей, хитрейший из зверей полевых. Должно быть, она понимает один миг, когда возникает вожделение, а потом уже она греховно длит это свое вожделение, один миг за другим. Чувствует, понимает и вожделеет. Что ж это за жуткий предмет? Кто ее такой создал, эту скотскую часть тела, что она может скотски понимать, скотски вожделеть? На самом ли деле это он — или это нечто нечеловеческое, движимое какой-то душой, более низменной, чем его душа? Его душа содрогнулась, когда он представил себе вялую змееподобную жизнь, питающуюся нежной сердцевиной его жизни и насыщаемую слизью похоти. О, зачем это так? Зачем?
Читать дальше