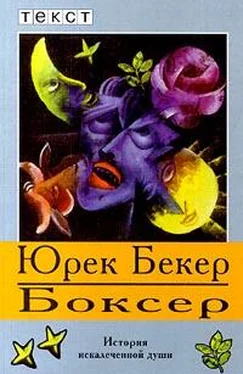— А можно я хоть загляну в комнату? — спросила Паула у сестры. — Я ни слова не скажу и сразу уйду.
Сестра разрешила, Арон в их разговор не стал вмешиваться и провожать Паулу до палаты тоже не стал. Помня высказанные врачом опасения, Арон подумал, что вряд ли при виде Паулы Марк может взволноваться. Он ждал перед дверью и радовался, что Паула сама высказала такое желание. Вскоре она вернулась и сказала:
— Он меня вовсе и не видел, они все спят.
А уже на обратном пути, по дороге к вокзалу, она вдруг обронила:
— А мальчик-то очень хорошенький.
Арон говорит, что слова ее прозвучали так, будто он утверждал обратное. Во всяком случае, она побывала у Марка, хотя вполне могла и уклониться. Причины ее поступка, которые вроде бы угадал Арон и которые по дороге в детский дом казались ему вполне убедительными, на обратном пути уже такими не казались.
* * *
Под конец одного из наших совместных дней я спросил у Арона, помнит ли он адрес тогдашнего «Гессенского погребка». Он ответил:
— Само собой.
Потом я спросил, где он находится, уж не в Западном ли Берлине, и Арон ответил:
— Нет, у нас.
Тогда я спрашиваю, согласен ли он сходить туда со мной, когда-нибудь, по мне, так прямо сейчас.
— Это зачем?
— Сам не знаю, — отвечаю я, — из чистого любопытства. А тебе разве не хочется через столько лет выпить там со мной рюмочку?
— Нет.
— Некомпанейский ты человек.
Несколько дней спустя он говорит, что в принципе мы можем и сходить в погребок, если я за это время не передумал. Я подзываю такси, Арон говорит шоферу адрес.
Погребок теперь называется «Балкан». Когда мы туда заходим, Арон долго оглядывает помещение, видно, здесь многое изменилось, а на меня он обращает внимание лишь тогда, когда кельнер ставит на стол две рюмки заказанного мной коньяка.
— А ты знаешь, сколько лет прошло? — говорит он. — Целых двадцать восемь.
Я спрашиваю себя, не растроган ли он, ибо очень часто наблюдал, как бывают растроганы пожилые люди, когда предаются воспоминаниям о давно прошедшем, независимо от того, приятные это воспоминания или нет. Может, одно немыслимо без другого, может, воспоминание и есть одна из форм растроганности, но применительно к Арону это не так. Он в последний раз обводит глазами помещение и на этом завершает осмотр. Словно в мыслях у него опустился занавес, или, может быть, он счел излишним и дальше предаваться воспоминаниям. Он выпивает коньяк, заказывает еще раз, после чего спрашивает:
— Ну, а теперь что?
— А здесь много изменилось?
— Все, — ответил он, — здесь ничего больше нельзя узнать. А ты что, пошел со мной только затем, чтобы выяснить, много здесь изменилось или нет?
— Ну конечно, не только за этим.
— Тогда зачем?
Я не могу понять, к чему он клонит, но мне на помощь приходит кельнер с новой порцией коньяка. Арон выпивает и говорит с улыбкой:
— Если ты надеялся, что со мной, едва я сюда приду, случится что-нибудь таинственное, то должен тебе сказать: ты ошибся.
— Ничего я не надеялся.
— Вот и хорошо.
— А где была комната, в которой вы собирались?
— Да там, — отвечает Арон, — а теперь расплачивайся и пошли, что-то мне здесь не нравится.
Мы не спеша побрели к ближайшей стоянке такси. По дороге Арон насмехается надо мной. Он говорит, что вполне может понять, если человеку, услышавшему рассказ о восстании Спартака или боях гладиаторов, вдруг захочется увидеть Колизей, это вполне оправданно. А вот чего ради меня понесло в «Гессенский погребок», я, верно, и сам не до конца понимаю.
Я спасаюсь отговоркой, что с самого начала этого и не утверждал.
* * *
Сперва в коридоре, а потом в снегу перед домом Марк начал пытаться ходить. Ему надо было укрепить мускулы ног, которые от долгого лежания стали тоненькими, как березовые веточки. Арон внимательно следил за успехами сына.
Именно теперь он считал особенно необходимым приходить сюда почаще, и не столько затем, чтобы присутствовать при тренировках мальчика, в этом он целиком полагался на персонал детского дома. Просто он думал, что Марком необходимо заниматься не только в смысле здоровья.
* * *
— А в каком еще?
— Я был твердо убежден, что годы, проведенные в лагере, натворили много бед и у него в голове. То есть что значит: я был убежден? Это любой мог видеть. Ему было уже семь лет, а разговаривать с ним приходилось, как с четырехлеткой. Уж не говоря о том, что он совершенно не умел ни читать, ни писать. Запас слов был у него до смешного невелик, он почти ничего не знал, мало чем интересовался. Кто же мог этим заняться, кроме меня?
Читать дальше