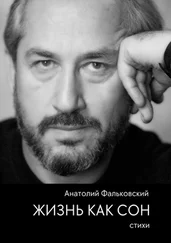— Сколько будет три плюс четыре? — экзаменовала меня матушка по дороге, потому что на следующий год я должна была идти в школу, и папа с мамой решили, что самое время начать меня подготавливать, ибо, как утверждал швед Густав Олоф Мартинсон в книжке «Гимнастика мозговых извилин», которая пользовалась тогда большой популярностью и казалась последним словом науки, уже в дошкольном возрасте следует регулярно массировать полушария мозга.
— Семь, — правильно ответила я, однако каждый верный мой ответ влек за собой еще более сложный мамин вопрос.
— Как называется столица Дании? — продолжала матушка, пока мы переходили по мостику на другой берег Свратки, в то время как высоко над нами на засахаренном холме вздымался Беличий замок.
— Копенгаген, — ответила я, и опять правильно.
— В каком году родился Томас Алва Эдисон? — спросила она меня как раз в тот момент, когда я впервые заметила огромную тень, что двигалась по земле, и подняла голову, чтобы взглянуть в лицо дирижаблю, этому двигателю прогресса, как называли тогда эти бескрылые бестии, которые в то время завладели (хотя и ненадолго) воздушным океаном. А за первым дирижаблем тут же приплыли второй и третий.
— Перестань пялиться! — прикрикнула на меня мама. — Так в каком году родился гениальный изобретатель, этот Колумб техники, именуемый также Леонардо да Винчи современности?
Я наклонила голову, посмотрела на землю перед нами и насчитала целых пять, шесть, семь, а может, даже восемь, или девять, или десять теней от дирижаблей, теней, что двигались нам навстречу. А затем тени начали маневрировать, и я поняла, что задние дирижабли уже нагнали передние и строятся перед ними, и за ними, и появляются все новые и новые, и они дисциплинированно выстраиваются в несколько шеренг — в ряд и друг за другом — и постепенно занимают все небо. Их становилось все больше и больше, и наконец самый последний занял единственный зиявший промежуток, и едва это произошло, как тут же стало темно, словно при полном солнечном затмении.
— Внимание! — крикнула матушка. — Achtung! [2] Внимание! (нем.).
ОСТОРОЖНО! ОСТОРОЖНО!
Но было поздно, тьма уже оторвала нас друг от друга. И я замерла на месте, уверенная в том, что только так и надо себя вести, потому что когда опять развиднеется, свет застанет меня там, где оставил. И вот пока я неподвижно стояла, окруженная темнотой, до меня внезапно что-то дотронулось. Любой другой, пожалуй, изрядно бы перепугался, однако же не забывайте, что в свои пять лет я — да-да! — была уже бесстрашной молодой дамой, воспитанной папой на рассказах о декабристах, о Рылееве, Пестеле, Муравьеве-Апостоле, Бестужеве и Каховском (он заставил меня заучить эти фамилии наизусть, чтобы они просто от зубов отскакивали), этих мужественных дворянах, боровшихся с разнузданной тиранией, которых царь Николай I приказал потом повесить.
(Это, дорогие мои, к делу не относится, однако я все же чувствую себя обязанной сказать следующее: тут папа порой сам себе противоречил. С одной стороны, это его восхищение декабристами и ненависть к самодуру Николаю I, а с другой — преклонение перед Николаем II, которого папа Бог весть почему почитал за государя доброго и справедливого, и когда братья Люмьеры засняли на пленку царскую коронацию, состоявшуюся в 1896 году, и потом этот фильм показывали в одном венском синематографе, папа смотрел его восемнадцать раз, причем всегда надевал темный костюм и пристегивал крахмальный воротничок. Но справедливости ради следует отметить, что его восхищение Николаем II не выдержало испытания Кровавым воскресеньем и всей этой бойней у Зимнего. Это, конечно, совсем не означало, что папа тут же переметнулся в стан противников царя, революционеров-марксистов. Напротив, когда летом 1914 года мы наконец всей семьей выбрались в Вену, о чем вы еще услышите, папа зашел со мной в «Кафе Сентраль», чтобы показать мне обидчика, укравшего нашу исконную фамилию, Льва Давидовича Бронштейна-Троцкого, но вместо него мы застали там Владимира Ильича Ульянова-Ленина, игравшего в шахматы с будущим чемпионом мира, в то время совсем еще юным Александром Александровичем Алехиным. «Ты видишь перед собой, — предостерегающе вытянул палец папа, — некоего Ульянова, который на самом деле еще хуже, чем шелудивый пес Бронштейн!»)
Вспомнила же я о декабристах еще и потому, что, когда меток в тот раз в темноте коснулось что-то, свисающее, как я сразу же поняла, с неба, мне представились виселицы, на которых их казнили. Но из этого, господа, вовсе не следует, что прикосновение было неприятным. В нем ощущалась некая ласка и шелковистость. И поскольку это «что-то» по-прежнему свисало вниз (а я уже догадалась, что оно спущено с какого-нибудь дирижабля) и ничего не происходило, то я осмелела и, не сознавая толком, что делаю, взялась за него сначала одной, а потом и другой рукой. И едва я так поступила, как шелковая лестница, ибо это оказалась шелковая лестница, плавно двинулась с места, и движение это было двоякое — одновременно вверх и вперед. И тогда я оттолкнулась носками и встала на первую ступеньку.
Читать дальше