…Я выныриваю из океана боли — хоть за что-то, как за ветку над пропастью, зацепиться!.. Вот — за дребезжание тележки со шприцами, которую пожилая неуклюжая сестра ввозит в палату. Я слежу за ее долгими, но бесполезными приготовлениями и вдруг с надеждой — наверное, с последней надеждой! — выговариваю:
— Скажите… а как ваша фамилия?
Она с недоумением смотрит на меня: и этот — еще жаловаться?
— Пантелеюшкина… А что? — произносит она.
И я улыбаюсь.
Лучшее время вахты — с ночи на рассвет, потому как в эти часы, чтобы не заснуть, разрешается ловить рыбу. Свесив с борта голову, я смотрю, как на прозрачной глубине тычется в наживку бычок, развевая бурые перья,— абсолютно знакомый, словно приплывший сюда за нами.
Заглядевшись на него, я даже на минуту забываю, что яхта наша стоит на рейде Канн. Вот город, о котором мечтают, наверное, все — в эти часы еще тихий, пустой. Ряды яхт вдоль набережной, знаменитые белые отели, зеленые пальмы.
Я счастливо вздыхаю. И вспоминаю, как это плавание началось.
…Мы выплыли из Ковша, вышли на Галерный фарватер. Будто весь дым из труб уселся на воду, даже Кронштадтский купол, сияющий всегда, растворился.
Мы высадились в форте, разложили снедь на бетонном круге, оставшемся от поворотной платформы пушки.
Высочанский, наш любимый гость, нежно радовался тому, что все — тьфу-тьфу-тьфу — по-человечески. Он бодро вскарабкался на крепость и, оглядывая оттуда простор, всячески вдыхал полной грудью, внушая и нам: вот это жизнь! Вот это красота! Может, хватит вам уродоваться в ваших железных душегубках, пора зажить по-настоящему!
Спустился он вовсе умиротворенный. Ласково выпил…
— Ладно уж! — Он с веселым отчаянием махнул рукой.— Пока не имею права вам говорить, но по старой дружбе: на октябрь утверждена регата, и ваша «Венера» — в реестре!
Он эффектно откинулся, огляделся. Все тихо молчали. Конечно, нам полагалось ошалеть, но только я вяло выкрикнул: «Неужели?» — остальные не реагировали.
— Ладно уж! — окончательно расщедрившись, добавил гость.— От вас, старых пьяниц, не скроешь: регату эту организуют крупнейшие винные фирмы Европы. Как это вам?
Все молчали еще более тупо.
— Только сомневаюсь,— вдруг Гурьич прохрипел,— что нам хоть стакан нальют, если у нас не будет самых свежих военных тайн. Какой смысл?
— Вы плохо думаете о наших партнерах! — воскликнул Высочанский.
Уже укупоренная подводная лодка, стоящая на кильблоках,— не самое лучшее место на свете. Нагнешься к слабо сипящему под ногами шлангу, всосешь чего-то теплого, пахнущего резиной,— и живи!
Но особенно тяжко, если лето и жара, и стоит едкий дым от сварки, а еще лучше — от резки металла, желательно — покрашенного! Стоишь, размазывая грязные слезы, и что-то пытаешься еще понять в едком дыму.
Высочанский, приехавший, чтобы устроить красивое отпевание, был поражен — что тут, напротив, кипит такая жизнь! Работяги, теснясь в гальюне, прожигая искрами собственные штаны, вырезали из железного пола литой унитаз. Зачем? В знак протеста? В подарок гостю? Высочанский плакал вместе со всеми, но явно не понимал, почему.
…Унитаз — вообще один из самых коварных агрегатов на лодке. Чуть задумаешься, недосмотришь за шкалами, не довыровняешь давление — и даст золотой фонтан, и ты выйдешь из места уединения весь, с ног до головы, в говне. И, что греха таить, такие казусы с нашим гостем происходили. Но сейчас назревало что-то другое.
Дышать становилось невозможно, концентрированные слезы буквально прожигали кожу. Высочанский не хотел выглядеть дураком, но и понять что-либо не мог… И тут наши пролетарии поднапряглись и низвергли с грохотом трон, как в семнадцатом, прямо к ногам отскочившего Высочанского. Зазубренный край железа хрипел и сипел, огненные пузыри медленно угасали, синели, слепли, словно глаза повергнутого дракона. Все повернулись и, едко кашляя, потянулись на выход. Никто ничего не объяснял.
И только я, сжалившись над гостем, и предложил эту прогулку, оказавшуюся роковой.
— Вы плохо думаете о наших партнерах! — воскликнул Высочанский. А что ж еще он, посвятивший сближению с Западом всю жизнь, отсидевший сначала в кочегарке, потом за решеткой, мог восклицать?
— Напротив — о них-то я думаю хорошо! — презрительно обрубил Гурьич и ушел на яхту, показывая, что не видит смысла в продолжении всего этого блаженства!
Обратно мы ползли еще медленнее. Лопотал лишь движок — все молчали. Находила тьма.
Читать дальше
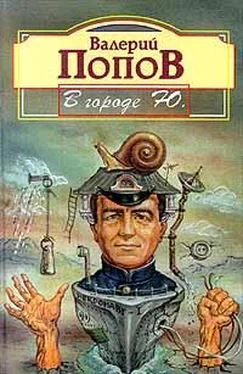

![Валерий Старовойтов - Возмездие [Повесть и рассказы]](/books/410983/valerij-starovojtov-vozmezdie-povest-i-rasskazy-thumb.webp)
![Валерий Попов - Все мы не красавцы [Повесть и рассказы]](/books/414372/valerij-popov-vse-my-ne-krasavcy-povest-i-rasska-thumb.webp)
![Валерий Попов - Сон, похожий на жизнь [Повести и рассказы]](/books/414373/valerij-popov-son-pohozhij-na-zhizn-povesti-i-ras-thumb.webp)
![Валерий Попов - Избранные [Повести и рассказы]](/books/414376/valerij-popov-izbrannye-povesti-i-rasskazy-thumb.webp)
![Валерий Попов - Чернильный ангел [Повести и рассказы]](/books/414381/valerij-popov-chernilnyj-angel-povesti-i-rasskazy-thumb.webp)
![Валерий Попов - Любовь тигра [Повести и рассказы]](/books/414384/valerij-popov-lyubov-tigra-povesti-i-rasskazy-thumb.webp)
![Валерий Попов - Две поездки в Москву [Повести и рассказы]](/books/414387/valerij-popov-dve-poezdki-v-moskvu-povesti-i-rass-thumb.webp)
![Валерий Попов - Нормальный ход [Повести, рассказы]](/books/414391/valerij-popov-normalnyj-hod-povesti-rasskazy-thumb.webp)
![Валерий Попов - Южнее, чем прежде [Повести, рассказы]](/books/414392/valerij-popov-yuzhnee-chem-prezhde-povesti-rasskazy-thumb.webp)

