— Пойдем счас с тобой пива попьем, и я тебе такое скажу — ты о ш е л о м у н д и ш ь с я!
Заинтригованный как формой их беседы, так и содержанием, я свернул со своего маршрута и последовал за ними. Они быстро, игнорируя огромную очередь, взяли пива («Что же вы, женщин, что ли не пропустите?») и, отойдя чуть в сторонку, сели на покривившиеся ящики. И я, с независимым видом пристроившись неподалеку и навострив ухо, услышал действительно ошеломляющую легенду: Боря-боец не сдался и там боролся, встретился с первым, с главным, и — что самое ошеломляющее — понравился ему, добился справедливости, и теперь через день-другой справедливость должна победить!.. Ведь не сразу же доходит до низов царский указ — чиновники стараются спрятать: мурыжат народ!
Я как зачарованный последовал за этими пифиями, принявшими — видимо, для конспирации — столь жалкий и оборванный вид. В дальнем углу двора, возле ларька Союзпечати, клубилась совсем другая толпа, очередь чистых, презирающих толпу грязных и предпочитающих в эти волнительные дни иное наслаждение: опьянение газетами.
Старухи с презрением шли мимо — на хрена им эти газеты, какая разница, что там пишут? — но вдруг на мгновение задержались и устремили взгляды туда. В чистой очереди в числе первых стояла пышная — пышная сама по себе и пышно одетая — дама, как ни странно, мать Боба, совершенно, в отличие от многих, не ценившая его и даже презиравшая, хоть и вынужденная жить с ним вместе… да, не признают у нас пророка в своем отечестве!
— Ну что, Порфирьевна, что там про Борьку слыхать? — с ехидцей проговорила одна из старух.
Мать оскорбленно откинула голову: эти спившиеся ведьмы специально пытаются ее опозорить в глазах интеллигентных людей, но она не из таких, она себя в обиду не даст, если понадобится, морды разобьет всем тем, кто бросает тень на ее интеллигентность!
— Бандит и есть бандит,— высокомерно ответила она.— Ему дадут, ему хорошо дадут!
Она с достоинством огляделась вокруг: да, я мать, но принципы мне важней!
— Так, так…— усмехнулись умудренные опытом и знанием старухи и последовали дальше.
Прошу прощения за то, что история эта развивается скачкообразно, но, к счастью для себя, я бывал в сферах, о которых сейчас рассказываю, не так уж регулярно, во всяком случае, не беспрерывно. Конечно, если бы я ходил туда ежедневно, я бы более досконально изучил эту жизнь, но, изучая ее ежедневно, я бы не имел уже сил о ней рассказать. В этом и состоит азартная — на грани гибели — писательская игра, не понятная никакой другой профессии. Дилемма эта неразрешима, и только тот, кто непостижимо умудряется совместить несовместимое, становится писателем. Обе опасности для него смертельны: погрязнешь с головой — ничего уже не напишешь, не погрязнешь — не напишешь тоже. Впавшие как в ту, так и в другую крайность бесплодны. Только гениальный баланс делает писателя. Впрочем, с каких-то пор все делается уже бессознательно — или у человека это получается, или нет. Бесплодны упавшие вниз, так же как и взлетевшие в пустынную высь. Нелегко не опуститься, но и не взлететь в комфортный вакуум, когда есть возможность, еще труднее. Короче: некоторая нескладность, пожалуй, необходима для литератора, так же как и сверхчеловеческая изворотливость,— иначе пропадешь.
Однако в тот день, когда рассказ этот сделал очередной скачок, столь тонкие мысли вряд ли приходили в мою чугунную голову. Я шел по сухому, корявому, пыльному асфальту, ощущая примерно такое же покрытие и у себя во рту. Да, с тоской озирался я, что-то жизнь не становится с годами прекрасней, а становится, пожалуй что, тяжелее и безобразней. Ну, ладно — убрали алкоголь, но чем же утолять нестерпимую жажду: ни лимонада, ни пепси, ни кваса… Как-то это не волнует их! Во всех магазинах, что я терпеливо обошел, из жидкостей был лишь уксус, но утолять жажду уксусом не хотелось — Иисус Христос на кресте утолил свою жажду уксусом и на этом закончил свое существование в образе человеческом, но я-то не Христос!
В отчаянии брел я и вдруг услышал сзади нахально-игривый знакомый тенорок:
— Ну, этот Феденька получит у меня маленькую соску…— Голос был знаком, но не вызвал почему-то ни радости, ни желания, обернуться… Голос был знакомый, но интонация какая-то новая, торжествующая! Что же, интересно, изменилось в воздухе? Я все-таки обернулся: догоняя меня, но двигаясь уверенно и неторопливо, шел… Боб во главе своей лихой команды. Да, слухи о чудесном его спасении не были ложными… Но что же случилось еще — ну, выпустили, ну и что, мало ли кого выпускают! Но они шли, явно торжествуя, явно победившие, уничтожившие преграды… Шагнув чуть в сторону с их дороги, я стоял с безразлично-скучающим видом и вдруг все увидел. Они шли, как обычно, не обращая внимания на встречных, торопливо сшагивающих с дороги в грязь на обочине, как и я… они шли, так же внятно матерясь, отнюдь не понижая голоса на рискованных выражениях, скорее, повышая… Но — произошел переворот — уверенность в их поведении стала понятна: на рукавах их потрепанных одежд сияли красные повязки!
Читать дальше
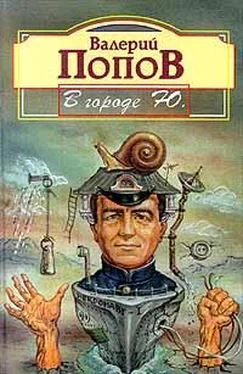

![Валерий Старовойтов - Возмездие [Повесть и рассказы]](/books/410983/valerij-starovojtov-vozmezdie-povest-i-rasskazy-thumb.webp)
![Валерий Попов - Все мы не красавцы [Повесть и рассказы]](/books/414372/valerij-popov-vse-my-ne-krasavcy-povest-i-rasska-thumb.webp)
![Валерий Попов - Сон, похожий на жизнь [Повести и рассказы]](/books/414373/valerij-popov-son-pohozhij-na-zhizn-povesti-i-ras-thumb.webp)
![Валерий Попов - Избранные [Повести и рассказы]](/books/414376/valerij-popov-izbrannye-povesti-i-rasskazy-thumb.webp)
![Валерий Попов - Чернильный ангел [Повести и рассказы]](/books/414381/valerij-popov-chernilnyj-angel-povesti-i-rasskazy-thumb.webp)
![Валерий Попов - Любовь тигра [Повести и рассказы]](/books/414384/valerij-popov-lyubov-tigra-povesti-i-rasskazy-thumb.webp)
![Валерий Попов - Две поездки в Москву [Повести и рассказы]](/books/414387/valerij-popov-dve-poezdki-v-moskvu-povesti-i-rass-thumb.webp)
![Валерий Попов - Нормальный ход [Повести, рассказы]](/books/414391/valerij-popov-normalnyj-hod-povesti-rasskazy-thumb.webp)
![Валерий Попов - Южнее, чем прежде [Повести, рассказы]](/books/414392/valerij-popov-yuzhnee-chem-prezhde-povesti-rasskazy-thumb.webp)

