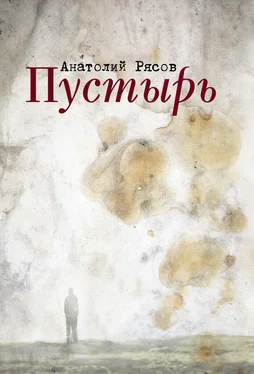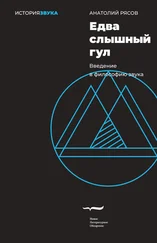Люди видят – независимо от того, как они настойчиво заговаривают своими сплетнями и беспокойно забалтывают своими домыслами – что существовать можно и без всего этого их, кажущегося им единственным, смысла. Это – невыносимая правда. От неё можно умереть, настолько всё становится неуютным. Люди хотят измерить эту невыносимость, приручить её: отказ от речи – это больше или меньше приятия её? Сама подобная формулировка вопроса ставит отказавшегося от речи на одну шкалу измерения с применяющими её. Если это больше, то перед нами – тоже своего рода божий человек, святой. Если это меньше – то он просто дурачок, недоразвитый. Но понять насколько бессмысленна подобная попытка сравнения говорящих и отказавшегося, сможет лишь тот, для кого речь – это не заговаривание собственного существования, но единственный путь спасения, кто способен «жить в словах». Его могут звать как угодно, назовём его кузнецом. Он умеет хорошо говорить о том, как он вообще не умеет говорить.
В любом случае, между словами имеется молчание – да будет оно «провозглашением зачарованной речи». Отказавшийся от речи «наделяет смыслом бессмысленное». Но мы сами, как существующие, разве не делаем того же? Другое дело, что мы не ответили на вопрос: что говорит безъязыкое человеческое наше существование, которое наделяет смыслом само себя? А кто может ответить на него?
[11]. Настроение
Мы пока не сказали, почему роман «Пустырь» – это роман о невозможности романа. Мы и не скажем этого. Лучше зададим простой вопрос: если бы читателю нужно было сделать действие, которое, будучи совершённым, оставило всё как оно было бы без этого действия, то что бы он сделал? Прежде, чем отмахнуться от этого вопроса, следует запомнить: действие обязательно должно быть совершено. И давайте откажемся от банальных констатаций, что «всё течёт, всё меняется», ведь Гераклит никогда не создавал этой балаганной песенки для зверей Заратустры.
Например, читатель поведёт пальцами руки. Хорошо. Он совершил действие? Да. Всё осталось таким же, как если бы он его не совершал? Да. Выходит, вопрос чрезвычайно простой и наивный? Да. Постойте-постойте! Откуда читатель знает, что он совершил действие, как он зафиксировал его совершение, если ничего не изменилось? Не получится ли здесь одно из двух: либо действие фиксируемо, и потому после его совершения что-то изменяется, хоть какая мелочь, либо оно не фиксируемо, и потому оно не совершается? И, если так, то вопрос невозможен и бессмыслен. Стоп! Невозможное, бессмысленное и не вмещаемое в комфортабельные прокрустова ложа наших привычных способов мыслить – разве это одно и то же? Если да, то с «Пустырём» придётся туго. Да, и ещё: читатель, повёдший пальцами руки и ничего не совершивший, свидетельствует об этом. Безо всякой фиксируемости собственного свидетельствования. Просто потому, что он есть. Это так мало и это самое большое, что только и бывает. Речь, если она что-то и может, то она может свидетельствовать. В том числе – и о собственной невозможности говорить. И, получая такое свидетельство, мы уже имеем дело с чем-то другим.
Задачей предисловия к «Пустырю» может быть только создание настроения, при котором его чтение будет наиболее внимательным. Внимать – это и значит свидетельствовать, здесь всё понятно. Вопрос в другом: как создать настроение при помощи слов, ведь настроение – не словесно? Напротив, слова становятся собой в том или ином настроении. Задача предисловия – создать настроение при помощи слов, задача предисловия в таком случае невыполнима.
Или нет?
Михаил Богатов
И снег будет падать. Холодный и хрустящий. Хруста не будет слышно. Никто не дерзнет ступить на холодную ткань, ни у кого не хватит отваги. Белое останется белым. На снегу не будет ни одного следа. Не будет ни колеи, ни лыжни, ни тропинки. Потому что не будет ни шоферов, ни лыжников, ни странников. Не будет даже следа босой ноги. И снег будет неумолимо опускаться искристыми хлопьями. Будет падать прямо на ладони. Засыплет ладони и руки. Засыплет всё. И после этого снег всё еще будет продолжать свое падение. Засыпать засыпанное. Белить белое. Потом всегда идет снег. Ломкие снежинки застревают между фалангами и расплавляются в пустоту дробящегося времени. Всё окажется сведено к бесконечно малой величине. По-муравьиному ничтожной, но не способной утратить величие. Часы раскалываются на минуты, а минуты на секунды, но это деление не станет смертью, вместо ничто всегда будет оставаться нечто. А место никто займет некто. Снежинки бесшумно распадаются в безжалостной, неумолимой белизне, бегут от себя, но в этом монотонном рассыпании вновь натыкаются на собственные останки. Хрусткие без хруста, эти снежные косточки дробятся на мелкие, бесконечно малые осколки, но не исчезают. Даже когда умирают. Даже тогда. Они умудряются существовать в собственной смерти. Они по-прежнему не уверены. Нет никакой возможности определить момент их смерти, потому что снегопад усиливается, и на ладонях растут уже целые сугробы. Самих ладоней не видно, но снежные трещинки и складки напоминают морщинистые линии на коже. Кажется, что они в точности повторяют их. Но это, конечно, иллюзия, обман. Просто те – подлинные – линии уже забыты. Но может быть, эти – новые – будучи только образом, оказываются даже точнее старых. Хоть и не подобны им. Но всё же их подданные. Бесподобные в своей образности. Безобразные в своем подобии. Снег идет почти бесшумно. И всё-таки можно расслышать едва ощутимый, убаюкивающий шелест. Очень тихий. Почти молчащий. Как утробный шёпот. Шёпот, который должен вот-вот затихнуть. Шёпот, который уже стих настолько, что даже нелепо называть его шёпотом. Шёпот, который уже умолк, но продолжает звучать. Говорить с самим собой. Какая-то разновидность молчания. Воспоминание о речи. Гул умирания. Тишина. Наконец, тишина. Молчание.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу