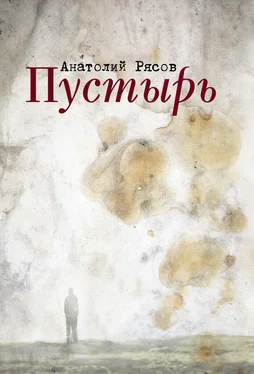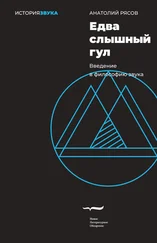За гвоздями, как правило, приходили не для ремонта (этим в деревне редко кто занимался), а потому что они требовались для заколачивания гробов. Ничего другого и заказывать-то уже особого смысла не было – с тех пор как воровать в домах стало нечего, подвесные замки перестали пользоваться спросом; ограды на могилах из скупости делать никто уже не хотел, а кресты Нестор ковать наотрез отказался, так что единственным и неизменным заказом оставались гвозди. Поэтому мало-помалу образ кузнеца неосознанно стал ассоциироваться у суеверных жителей деревеньки со смертью. Из нелюбви к Нестору иные даже разламывали пустующие дома и вытаскивали из досок кривые, проржавевшие, лишенные шляпок штыри, и, матерясь, заколачивали гробы своих родственников ими, лишь бы не видеться лишний раз с кузнецом.
К тому же все слухи о нем неизменно сводились к темной истории о гибели его жены и дочери, которые около десяти лет назад утонули в деревенской речке, тогда еще не зацветшей и вполне пригодной для купания. В те времена в речке даже еще водилась мелкая рыба, которую целыми днями ловили мальчишки. Речка была неглубокой и застоявшейся, но народу в ней утонуло много, только на памяти одного поколения – человек около десяти, а для такой деревеньки – это число большое. Про речку, забирающую жизни, ходили нехорошие разговоры. После смерти несторовской семьи в реке стали меньше купаться (всё-таки до этого тонули дети да пьяницы, а тут – сразу мать и дочь, что-то неладное, видать, с речонкой-то этой), а со временем совсем перестали, и она довольно-таки быстро начала зацветать, пока практически вся ее поверхность не покрылась зеленой чешуей. Главная загадка этой смерти заключалась в том, что было решительно непонятно, куда могли деться тела двух утопленниц, – обычно трупы всплывали уже на следующий день после несчастного случая. И все гадали, что же могло произойти. Были и рациональные предположения вроде «знамо дело – за корягу какую-нибудь зацепились», но большинство населения склонялось к доводам мистическим, считая, что неспроста вот так люди пропадают. Нестор же после смерти жены и дочери запил. Пил он не слишком долго, не больше года, но за это время его успели окрестить опойцем, причем, как водится, прозвище это дали ему те, кто и сами были не дураки выпить. А взор его серо-синих глаз с тех пор так и остался мутным и невыразительным, словно пьяной дымкой затянутым. Взгляд больше не изменился, хотя сам кузнец с тех пор постарел – его волосы седели, всё больше приобретая пепельный оттенок, только борода так и оставалась черной. «А как у Нестерки бабы-то его померли, про него и вовсе позабыли… Пил он пил, пока всё не пропил. Так и носит Нестерка одежду одну и ту же, поверх всего.»
Он был единственным мастеровитым мужиком во всей деревне, но трудно вообразить обстоятельства, когда к нему обратились бы за помощью. Нет, когда-то (и не так уж давно, в общем-то) его ремесло пользовалось успехом: он с утра до ночи ковал петли, дверные ручки, замки, кочерги, ножи, даже таскал с собой шпераки, чтобы, если что, на месте сковать. Молчун-молчуном, но парой слов переброситься тогда еще не чурался. Но по мере одичания Нестора и омертвения Волглого в этих услугах всё меньше стали нуждаться. К тому же всем казалось странным, что этот работник снес свою старую хибару, но оказался не способен достроить новую, которая даже в сравнении с убогими домами остальных жителей казалась свалкой. «Мастер-то, мастер, а свое жилье отремонтировать не может», – частенько говаривали про него, – «и дом-то у него плоше, чем даже баня наша захудалая.» – А многие считали, что он не ремонтирует свой дом неспроста, и потому к его образу, и без того малопривлекательному, добавилось еще и поверье о колдовском промысле.
Помещенье мастерской с закопченными, пахнущими сыростью стенами и разреженным светом, поблескивавшим на наковальне, как нельзя лучше подходило для обиталища виритника. К тому же как-то во время сильной грозы в крышу его стоящей на возвышении мастерской ударила ночная молния, отчего кровля так и осталась опаленной. И этот дом-недогарок был главным напоминанием о нечистой душе его хозяина. «В лес он не охотиться уходит, волховничает он там с содранными шкурами. – Дочку-то они даже и не покрестили. Не зря его Лукьян на дух не переносит. – А потерчат-то дьявол ворует, известно дело. – Девчонка его родилась с хвостиком коротеньким. Мои ж детишки его как-то во время купания приметили. – А когда я ее по головке разок погладила, тут же рожки маленькие почувствовала. – Да не тонули они, бросьте басни сочинять, сам он их как-то ночью от скуки прирезал, сволочь. Дрянь человек. – Надо ж, такая смерть. – Да не умирал никто вовсе, утопленницы живы-живехоньки, он их в дальней комнате прячет. Или в погребе. – Нет, Ольга – баба гордая была… Не допустила бы… – Вот спесь-то эта ее и сгубила! За Луку в свое время не вышла, так вот с этим нелюдем и сгинула. – Да ладно, гордая! Как петух рябу топчет, так и мужик бабу мнет. – Тут уж кто на кого вскочит, тот того и топчет. – Да точно сбежала она от него, от изверга, а он эту чушь про речку сочинил, чтобы вконец стыдно не было. – Ну уж прямо, ему до стыда-то и дела никогда не было. – Да нет, видели же, как тонут. Дочка захлебнулась, мать за нею, в одежде прямо, и туда же – в вертуна нырнула. – Бросьте, не человек он вовсе. Ему и железо неспроста повинуется. Черный мужик. Бес он. Вот что. Такому стоит глянуть только, так тотчас же дурно станет. – И в лес-то уходит, чтоб с болот-няниками плясать! Грома на него нет!»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу