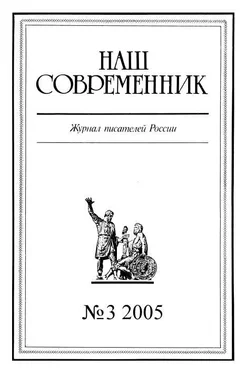Кармазинов с его вкрадчивой речью, с его глубоким убеждением, что самые благородные свойства души — суть «лишь старые формы», уверенностью, что «русскому человеку честь — только лишнее бремя»… Всем этим «великий писатель» напоминает персонаж из другого романа Достоевского — чёрта Ивана Карамазова.
В «Белой гвардии» М. А. Булгакова Алексею Турбину во сне Кармазинов является именно в виде чёрта. Перед сном, укрывшись за кремовыми шторами от кровавого безумия гражданской войны, булгаковский герой перелистывал «Бесов». Он засыпает, и является «кошмар», продолжая бесстыдный монолог. Даже во сне встревоженный военный врач делает отчаянную попытку одолеть зло.
«— Ах ты! — вскричал во сне Турбин. — Г-гадина, да я тебя. — Турбин во сне полез в ящик стола доставать браунинг, сонный, достал, хотел выстрелить в кошмар, погнался за ним, и кошмар пропал».
Монолог пустившегося в откровения «великого писателя» звучит необыкновенно актуально в переломные моменты русской истории. Вот и сейчас мы, преодолевая отвращение, напряженно вслушиваемся:
«— … Я понимаю слишком хорошо, почему русские с состоянием все хлынули за границу, и с каждым годом больше и больше. Тут просто инстинкт. Если кораблю потонуть, то крысы первые из него выселяются. Святая Русь — страна деревянная, нищая и… опасная… Тут всё обречено и приговорено. Россия, как она есть, не имеет будущности. Я сделался немцем и вменяю это себе в честь».
Кармазинову, как наблюдателю, явно кажется, что с помощью хитроумной искусительной проповеди «бесам» удастся добиться духовного разложения общества и взять его в руки.
Кармазинов совершенно уверен, что мировое зло не встретит сопротивления:
«Я уже потому убежден в успехе этой таинственной пропаганды, что Россия есть теперь по преимуществу то место в целом мире, где всё что угодно может произойти без малейшего отпору».
Отстаивание нетленных, вневременных идеалов человека — единственно возможная творческая позиция для создателя фильма «Гибель богов». После выхода на экраны своего фильма (1969 г.) Лукино Висконти заметил:
«Молодые должны усвоить, что непротивление злу приводит к его абсолютизации»*.
Фильм Висконти — это реалистичный рассказ о семействе и семейном предприятии. Перед нами Дом, разрушаемый изнутри темными помыслами домочадцев и снаружи — силами, обретающими власть над страной, вступившей в самый трагический период своей истории. История семейства и история государства… В «Гибели богов» перед нами Германия начала 1930-х годов.
О созревании идеи фильма Висконти говорит так:
«И если бы завтра я решил, например, снять фильм о конце дома Романовых, это тоже не было бы случайным решением, потому что я очень много читал о России, о династии Романовых, об Октябрьской революции, о Ленине, о Временном правительстве, о Керенском, Распутине, о большевиках, о гибели царской семьи. Конечно, мне пришлось бы уточнить некоторые подробности, поднабраться деталей, но в целом я для этого достаточно подготовлен. Другими словами, подобные замыслы возникают не случайно, скорее, это потребность, которая зреет в нас постепенно и в один прекрасный день выплескивается наружу, требуя своей реализации».
Это, конечно, авторский кинематограф, на всех фильмах Висконти — печать художественной индивидуальности режиссера.
Сам термин «неореализм» стали применять именно после появления фильма Висконти «Наваждение» (1942 г.). Зритель нашей страны, воспитанный на гуманистических традициях русской литературы, не мог остаться равнодушным к памятникам итальянского неореализма. Сочувственное изображение жизни «бедных людей», «маленького человека», призыв к нестяжательству, простота изобразительных средств — всё это привлекало сердца к неореалистам.
Висконти ценили в Советском Союзе как «художника социальной темы», и уже в 1965 году в Москве вышла о нем монография.
В 60-е годы культурная: ситуация в Италии стала меняться. Изменилась панорама итальянского кино. Режиссер Карло Лидзани в середине 70-х писал:
«Если смотреть на неореализм с высоты сегодняшнего дня, он может не удовлетворить наблюдателя, может показаться слишком простоватым или слишком устаревшим. Однако характерный для неореализма интерес к социальной судьбе человека мог бы послужить сегодня стрелкой компаса, указывающей выход из лабиринта самоубийственных и ностальгических настроений, которые обуревают западный мир».
Читать дальше