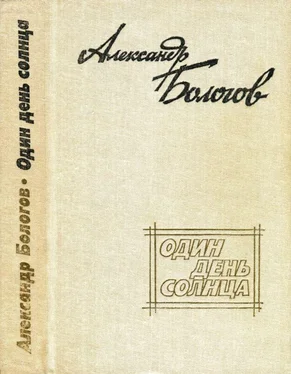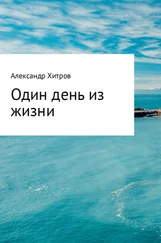От картин недавнего прошлого веяло живым теплом, согревающим дыхание; резь в прижатом боку уходила глубже, утихала…
…Он спал на полатях, как называли верхнюю лежанку печи, а дед — на узком деревянном топчане, стоявшем у ее боковой стенки, вытертой над спинкою до кирпичей и неизменно теплой, даже — решил подумать Вовка — и летом… Хозяйка любила тепло, каждый сезон загодя беспокоилась о дровах, и сарай ее к весне не опустевал, как у других, до последней щепки.
В какое-то время наладился спать на печи и дед. Призывая в помощь бога, отчаянно кряхтя, он взбирался на лежанку, отгребал в сторону сухую овчину и, задрав рубаху, прилаживался спиной на голых кирпичах. И лежал так подолгу, бормоча что-то себе под нос, прислушиваясь к тому, как просачивается, проникает тепло в самые дальние уголки ветхого тела и как спина, и руки, и ноги, уже немощные и малопослушные, обретают новые силы. «Ничего, ничего, внучек», — всякий раз повторял дед, слыша, как Вовка, вспоминая свои дневные заботы, тоже покряхтывал и посапывал, забываясь во сне.
«Нету больше деда, и никогда теперь на печку он не полезет», — перебилась у Вовки мысль, и быстрая слеза заскользила по щеке и растеклась где-то за ухом. След ее — едкий и холодный — стянул кожу. Съежившись еще плотнее, глубже затиснув между ног руки, Вовка попытался сжать зубы, он понял, что воспоминания о деде с любой стороны неизбежно приведут его к горькому ощущению одиночества и бесприютности. Он не знал, как долго она может длиться, эта кошмарная явь, даже вроде бы и не задумывался над ее временной природой, не научившись пока видеть что-либо впереди дальше ближайших дней, как и многие его сверстники. Сейчас он хотел единственного — хоть на какой-то момент почувствовать теплое бездумное расслабление в неясной надежде на то, что, придя к нему, оно уже никогда его не оставит.
…Вдруг причудившийся на языке теплый сладкий вкус вызвал в памяти кухонный стол и на нем огромный, из целой газеты, кулек медовых жамок — неизменный дедов гостинец с пенсии. Пахучие жамки таяли во рту, а дед, стирая с бороды крошки, покачивал головой — бери, бери, все наши. Можно было съесть сколько в тебя влезет, и Вовка об одном жалел, что не может угостить такою вкуснотою своего друга Костьку Савельева. Это дело дед безоговорочно запрещал и, обнаружив однажды Внуково жульничество — тот исхитрился-таки скрытно запихнуть за пазуху облитый сахаром кругляш, — заставил его выпростать из рукавов и вытянуть по столешнице руки и стеганул по ним замусоленным ремнем. «О тебе же радею», — напряг он голос в ответ на вскрик и скрытые слезы внука и отвернулся, утираясь. Душа Вовки вспыхнула гневом, и слезы потому лишь не закапали, что на исходе высыхали в ее мучительном огне.
Это, конечно, давно уже было, он еще маленький был…
…Где же похоронят деда? Не будет же он валяться на площади невесть сколько? А кто же будет хоронить-то, кому он нужен-то? Может, его уже подобрали да свезли куда-нибудь в развалины или в яму какую, а то и в лес — подальше от глаз… Как он рвался туда, к страшному балкону!.. Как с ума сошел… Пальцам не хватало крепости удержать его за полу безрукавки — овчина ползла из них, как живая, и дед, одурелый, бил по рукам, чтобы быстрее кинуться к своей гибели…
Когда Вовку разбудил какой-то посторонний звук, он в первые секунды даже не мог сообразить, где находится. Недалекая автоматная очередь, как удар тока, отдалась во всем теле, Вовка вскинулся, вскрикнул от боли в боку и, не разгибаясь, прислушался.
Со стороны города донесся неясный шум и лай собаки. Вовка задержал дыхание и сразу же услышал быстрые шаги; кто-то, сбиваясь на бег, протопал мимо вагона к элеватору, — тяжелые свистящие всхлипы прошелестели в метре от прикрытой двери. И тут же по-новому проявился лай, словно собака выскочила из-за поворота: ее голос стал ближе и чище, он быстро приближался.
Через некоторое время собака, а с нею люди — по тяжкому топоту ног трудно было определить, сколько их, — промчались в том же направлении, к элеватору; вскоре оттуда донеслись сдавленный хрип и рычание, резкие голоса. Прогремели два выстрела.
Боясь вздохнуть, Вовка прислонился спиной к стене вагона и, как мог, напряг слух. Голоса возвращались. Вот долетели какие-то слова — возбужденные, крепкие, — стали различаться грузные шаги, прерывистое повизгивание собаки…
У самой двери, задвинутой Вовкой почти до упора — что-то мешало ей стать на место, — собака вдруг коротко зарычала и тут же, захлебываясь, залаяла. Голоса смолкли. Луч фонарика скользнул по щели, дверь, лязгнув, подалась назад, свет метнулся по вагону и ожег Вовке глаза…
Читать дальше