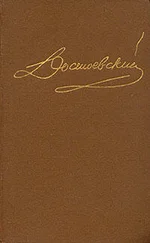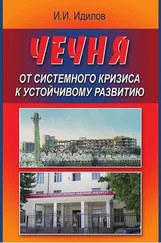Кади опять обменялся взглядом со своим спутником, прежде чем заговорить:
— Вот ты признаешься, что он — прорицатель. На равнине всем известно, что он кладоискатель отчаянный, все мнимые сокровища ищет…
— Ну и что, если я знаю, что он ясновидец? Что в том дурного? Он действительно мне этот секрет открыл, но я в этом его признании не вижу ни для кого какого-либо злого умысла. Я многих кади встречал в своей жизни, но более странного вопроса еще не слышал…
Тут прибыла вторая группа. Двое негров-великанов во главе с одним из вассалов. Он был ростом выше кади и более худощав. Одет был в старый белый джильбаб и тощую черную чалму. Рядом с ним кади, в ослепительно белой просторной одежде с широкими рукавами, казался более дородным. Голова у него была обернута полосатой тканью, не очень уж щедро. Правая рука у запястья была отрублена. Говорили. Получил он такое наказание от руки известного разбойника, которого баба когда-то осудил, в пору исправления им службы судьи в краю Шанкыт [158], на отсечение руки, руководствуясь правилом шариата, которое предписывает убивать убийцу и отсекать руку вору и вырезать язык клеветнику. Однако обосновавшийся в Шанкыте вор преградил путь каравану, с которым путешествовал кади, и приговорил его к такому наказанию. Руку ему в запястье отрубили мечом да еще прижгли кипящим маслом, чтобы остановить кровотечение, после чего разбойник ему сказал: «Око за око, зуб за зуб, а зачинщику — первый кнут!» После этого пришлось кади из края того бежать и пристроиться судьей в Томбукту. Оставался он там в течение всей золотой эпохи столицы, а когда время кончилось и иссякла вся золотая пыль, переехал он, как прочие, вслед за заколдованным металлом, который сеял в Сахаре жизнь и возрождал исчезнувший Вау из небытия.
Представитель вассалов наклонился к судье и что-то начал шептать ему на ухо, а затем разжал кулак и показал два катышка верблюжьего помета. Разломил их руками и сказал вслух:
— Все еще свежие. Из желудка верблюдицы вышли, позавчера. У выхода из подземного хода нашли.
Кади изучил предложенные доказательства и вернулся к допросу шейха:
— Что думает вождь: в состоянии ли несчастный скиталец вторгнуться в обитель джиннов и войти в подземелье?
— В прошлом ни одна тварь на такое бы не отважилась, однако, у этих магов и мудрецов из джунглей свой закон, особый.
— Твой гость не покидал равнины. Единственный след найден возле устья в подземелье. Все указывает на то, что он вошел в тот кромешный коридор, а разве это разумно — добровольно в ад отправляться?
— Аллах лучше знает. Ни один мудрец в геенну не вступит, разве только если хочет избежать геенны похуже.
Кади закачал головой в знак согласия. Сказал, пристально вглядываясь своими маленькими карими глазками в глаза вождю:
— Верно говоришь. Ни один мудрец в геенну не вступит, разве только если хочет избежать геенны похуже. Клянусь, это мудрое изречение заслужит удивление султана. Я клянусь своими четырьмя прадедами, что оно заслужит…
Он поднял искалеченную руку для приветствия, прежде чем отправиться прочь и исчезнуть в столбах пыли, которые извергла ему вслед Сахара.
Гордыня солнца пошла на убыль, на горизонте налилось алое облачко — надвигался вечер. Он преодолел пространство, отделявшее палатку от Идинана. Поднялся на холм и загляделся на необозримый, простиравшийся до бесконечности голый простор. Он долго терпел давление. Думал поискать утешения у мудрых долгожителей, однако отказался. Не потому, что избегал столкновения с Беккаем или с кем-то из его окружения, поддерживавшего его точку зрения. Но потому, что он знал природу этого явления. Он знал, что этот недуг не прекратится в общине, если его не изолировать полностью. Это смертельный недуг, зараза, ее убить может только власть пустого пространства. Он вышел в одиночку просить помощи у Сахары. Пошел, потому что знал также, что причина кроется не в той волне отчуждения, с которой накатился на него султан, не в самом его решении снять секретность со своих операций с золотом, не в том, что он избегал встречи с ним, когда он просил этой встречи, и не в налете, который он устроил на пещеру в Идкиране — также. Причина — в скрытом давнем ощущении, оно зародилось еще после первого изгнания и со временем переросло в неосознанное пока убеждение, в котором он сам себе долгое время боялся признаться. Как это случается с больным, который вначале отказывается признать свою болезнь, пренебрежение ощущением не дает покончить с тревогой, а только усиливает болезнь, превращает в смутную тревожную мысль, застарелую, хроническую. Что это — дурацкая вера в людей? Что же, неужели обречен на мучения всякий, кто отдал душу свою людям, обеспечивал им безопасность, право на землю и право на небо, предполагая, что они ответят ему благими намерениями? Как еще можно строить власть над людьми, если вождь считает невозможным использование этой валюты? Или секрет кроется в той необъявленной забаве, что превращает шейха в циновку, которую попирают ногами пришельцы с юга и пинают почем зря захватчики, пришедшие с севера. Это обычно происходит с оседлыми земледельцами в оазисах. И все это — за то, что он посчитал, что править людьми надо справедливо, устроить для Аллаха тень на земле? Однако Анги толкует о чем-то ином, видит причину таких событий в более далеких пределах. Говорит, что всякий, ступивший на землю и избравший своей позицией слабость и рабство, не заслуживает священного звания «путник». Потому что всякий, кто нашел в душе мужество и отказался принять хлеб даром из рук земли, на самом деле отказался, прямо или косвенно, принять дар неба, и заслуживает, чтобы его нарекли прозвищем «славный», не потому, что стал в этом бесконечном изгнании единственным свободным существом, но потому, что бремя ответственности, бремя свободы, которые он добровольно и честно возложил себе на плечи, делают из него гордеца, который в своих поисках Вау не увидит вовеки ничего, кроме горизонта, миража и царствия небесного. Да. Секрет родился в недрах неподвижности, в успокоенности, в оседлости. Если бы ему не было по душе расположиться с племенем возле колодца на равнине, сунув голову в петлю колодца, окружив себя засухой, жаждой и проклятым южным ветром на все эти долгие годы, то шейх братства не осмелился бы прервать свое путешествие в Тават, вернуться и накинуть ярмо ему на шею. И если бы не эта самая оседлость и расхлябанность туарега, никогда не смог бы Анай возвести эту поганую крепость-тюрьму у него перед глазами да еще назвать ее «Вау», прельстить слабодушных и жаждущих этакой ложной прелестью. Если бы не эта оседлость не смог бы султан одурачить глупцов и соблазнить их золотом, чтобы последовали они все за ним, склонив головы под аркой, в эти тюремные врата, как когда-то легендарный бродяга увел народ в жерло пропасти, обещая им славное угощение…
Читать дальше