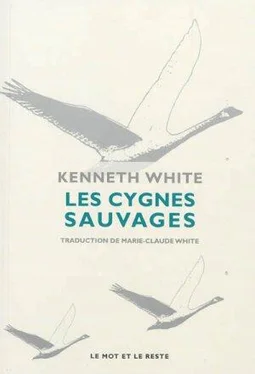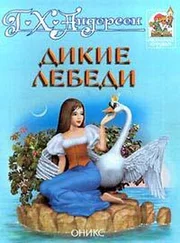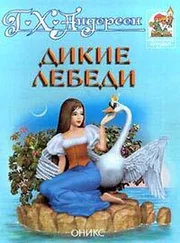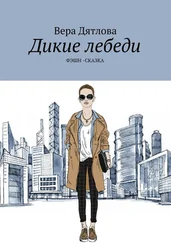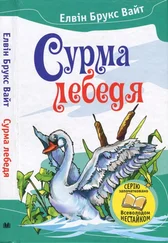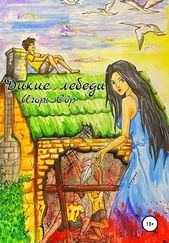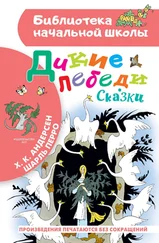Сейсенсуи выдвинул пять новых принципов: свобода, выраженная эмоциональность, естественность, сила, жизненность. Это вдохнуло новую жизнь в поэзию хокку, поскольку она, как и всякая форма, со временем утрачивая естественность, становилась все более искусственной, покуда потребность в обновлении не обнаружилась внутри жанра в лице сильной человеческой личности, хотя бывает, что изменения приходят и извне. Это была маленькая революция, которая, однако, сберегла главные принципы, заключенные в традиции — ваби (простоту) и саби (одиночество).
Вот каким образом Сантока сделался монахом и стал на путь хокку: проучившись год в Токийском университете, где он предавался неумеренному питию и страдал депрессией, в самом начале русско-японской войны, в 1904-м, он вернулся домой, ибо его отец не мог более оплачивать его обучение. Продав большую часть фамильных земель, Сантока вместе с отцом открыл винокуренное производство, а еще некоторое время спустя по настоянию отца (старик полагал, что женщина удержит сына от пьянства) в возрасте двадцати пяти лет Сантока женился, и у него родился сын, Кен. Но дела шли, как говорится, от плохого к худшему. Винокурня обанкротилась, семья распалась. Сантока уехал в Токио, где работал по случаю то здесь, то там. В 1924 году, не видя впереди ни малейшего просвета, он решил покончить с собой. Он встал на рельсы лицом к несущемуся поезду, но тут со страшным скрежетом состав затормозил и остановился. Сантоку оттащили в сторону. Его приютил дзенский храм, оказавшийся неподалеку. Настоятель храма сказал ему, что он может оставаться здесь столько, сколько захочет.
Когда-то Сантока изучал буддизм, слушая в университете лекции по дзену. Теперь же он просто занимался работами в храме, упражнялся в медитации и пел сутры. Через год он был рукоположен в сан. Довольно долгое время он полагал, что нашел именно то, что ему нужно, и собирался продолжить занятия в главном храме школы Сото, но, размыслив, что в сорок три года будет нелепо выглядеть среди желторотых юнцов, решил отправиться в путь — как странствующие монахи прежних времен. Все последующие годы, до самой смерти в 1940-м, он провел в странствиях, ненадолго возвращаясь отдохнуть под крышу маленького дома, который друзья предоставили в его распоряжение. Он исходил весь юг, Хонсю, Кюсю и Сикоку, прежде чем однажды не отправился на север дорогой Басе.
Все это время он вел дневники, писал эссе и хокку, подобные этим:
Ну что же, что ж,
Куда же направить свой шаг?
Ветер свищет.
Идя, проникать
В свет и мглу
Ветра.
Достигать
Все более дальних пределов
Зеленых гор.
Без цели, без принуждения
Бредя отсюда туда,
Пробуя чистую воду.
Что лучше смирит
Сердце,
Нежели жизнь в горах?
Длинные черные волосы веселых распутниц
Растрепаны
Соленым ветром морским
Присел на дюну –
Сегодня опять
Остается невидимым остров Садо.
А ныне в трактире.
Горы справа и слева,
Винная лавка напротив.
Сегодня не нужно сакэ,
Просто садись
И гляди на луну.
Сантока говорил, что три вещи радовали его: учение, созерцание, хокку. Но если в его стихах и есть слово, которое повторяется неоднократно, то это “горы”. “Люди Запада мечтают покорить их, — писал он в одном из своих эссе, — на Востоке их предпочитают созерцать; я же хочу наслаждаться ими…”
Шаг за шагом иду по тропинке у подножия горы Гассан. Три шага на вдох, три — на выдох. Светлая осень, поток, ниспадающий водопадом, вороны, порывистый северный ветер. Шаг-хокку.
Всего лишь месяц назад здесь, на горе, было полно ямабуси, затворившихся в своих пещерках, словно моллюски в раковинах. Но этим утром — никого, и все, что я слышу, это крик ворона в ослепительно-синем небе.
Мне очень хорошо.
Один я
Да один старый ворон
В незнакомой стране.
Пытаюсь сориентироваться: Акита на севере, Мураяма на востоке, Ниигата на юге, а на западе — длинная гряда дюн и Японское море. Вокруг меня — три священные горы, у моих ног — быстрый ручей. Я снимаю одежду и башмаки, вхожу в воду и, как могу, омываюсь ею. Потом устраиваю легкий завтрак: соевый пирожок, маринованные сливы, немного сакэ.
Горы вокруг.
На берегу ручейка
Попиваю сакэ.
Весь северо-восток Японии с его суровым климатом и архаическими нравами входит в то, что называют “провинциальной Японией”, в которой в прежние времена горный район, и в особенности гора Гассан (“лунная гора”), считался местом силы. В деревнях устраивали особые праздники, чтобы пригласить силы вернуться после долгого зимнего отсутствия на рисовые поля и посодействовать севу и сбору урожая. Во время праздников устраивали танцы:
Читать дальше