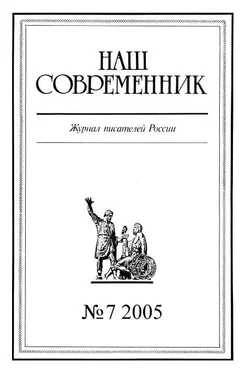Этой весной по настоятельной Вашей просьбе я пошёл на то, чтобы мой заместитель Г. М. Гусев на три месяца оставил работу в журнале и поступил в полное Ваше распоряжение для редакторской работы над очередным томом «России распятой». (Так что и Вы в нас нуждались.) Ну разве все это не есть свидетельство того, что и журнал, и его главный редактор ценили Ваше многогранное творчество?
А какие слова мы нашли, анонсируя в злополучном июльском номере Ваши будущие главы, подготовленные Гусевым к печати: «великий художник», «патриот-подвижник», «мыслитель», «историк», «страстный публицист». Ну разве без ощущения масштаба человека, глядящего с обложки журнала в будущее, возможно было напечатать такое?
А тот английский галстук (за 50 долларов), который Вы мне подарили во время работы над «Россией распятой», я уже четыре года не перевязываю, памятуя о том, что к узлу прикасались Ваши гениальные руки.
Скажу то, чего до сих пор никому не говорил. Вы даже не знаете, что в начале 90-х годов, когда в редколлегию журнала вошёл Владимир Солоухин, он сразу же предложил мне опубликовать повесть «Последняя ступень», в которой главный герой — талантливый фотохудожник, «мыслитель» и «историк» — является в то же время человеком, тайно связанным с КГБ, чуть ли не провокатором.
Когда из разговора с Солоухиным, да и из самой повести мне стало ясно, что прототипом этого обаятельного героя является знаменитый русский художник, ужас объял меня.
— Я не верю! — закричал я Солоухину. — И никогда не буду этого печатать! Возьмите рукопись назад и, умоляю, никогда не публикуйте её!
К сожалению, Солоухин не послушался меня, и рукопись в несколько смягчённом варианте всё-таки стала книгой.
Прочитали Вы, Илья Сергеевич, мои воспоминания о Кожинове, и я сразу стал для Вас «посредственным поэтом». Пришёл я домой расстроенный, «посредственный», достал Ваш альбом, некогда подаренный мне, открыл — а на титульной странице слова, греющие душу: «Дорогому Стасу Куняеву, прекрасному поэту, с давней дружбой, с уважением и благодарностью за всё доброе! Твой И. Глазунов. Надо держаться! 1989 год, декабрь».
Читаю, чуть ли не плачу и думаю: авось, и Илюша оттает.
Ну нельзя так круто менять мнения, Илья Сергеевич! Мы же люди публичные…
А наша с Вами распря не политическая, не идеологическая и, что чистая правда, не национальная. Просто Вам, Илья Сергеевич, всегда были нужны не соратники и товарищи, а исполнители Вашей воли и верные слуги. Каких всегда было много вокруг Вас. Но в этом кругу не могло быть ни Вадима Кожинова, ни меня…
Но самое скверное в этой истории то, что Вы не столько на меня негодуете, сколько пытаетесь принизить литературное и историческое значение Вадима Валериановича. «Широко известный в узких кругах». А известно ли Глазунову, что в мае этого года в Армавирском пединституте состоялся съезд филологов и историков многих провинциальных институтов и университетов России, и за несколько дней буквально участники съезда, посвященного Кожинову, собрали и издали два тома воспоминаний о нём и размышлений о его значении для русской культуры? Так что у Вадима тоже была своя академия, может быть, не менее значительная, чем Ваша Академия художеств.
А если совсем серьёзно, то меня меньше всего сейчас волнуют всякого рода картины нашей прошедшей жизни, надписи на книгах, небольшие творческие победы. Мы на данном историческом отрезке (верю, что не навсегда!) проиграли русское дело. И рядом с этой трагедией наши достижения в жизни вроде росписи Кремлевского дворца, право, кажутся такими частностями. Полного признания, как и полного счастья, не бывает. Особенно в России. А потому — что нам остается? Разве что быть независимыми от кого бы то ни было и со спокойствием и бесстрашием поведать потомкам, на каком фоне происходила эта самая русская трагедия. Что я стараюсь делать в меру своих сил. Хотелось бы следовать есенинскому завету:
Разберёмся во всем, что видели,
Что случилось, что сталось в стране,
И простим, где нас горько обидели
По чужой и по нашей вине.
* * *
А таинственная солоухинская рукопись о фотохудожнике заканчивалась так: автор, проезжая на машине по Лубянской площади, с ужасом и отвращением случайно видит, как его кумир Кирюша («Илюша»), «ленинградец, петербуржец, с какими-то древними дворянскими предками, чуть ли не потомок Брюллова», воровато оглянувшись по сторонам, входит в подъезд знаменитой на весь мир цитадели — Комитета государственной безопасности.
Читать дальше