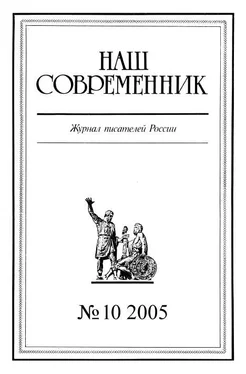Май 1983 года был не самым солнечным в моей судьбе, может, поэтому я наизусть запомнил строки Распутина о Фёдоре Абрамове и не раз цитировал их друзьям-забайкальцам, впадавшим в слюнтяйство и депрессию. Кстати, Станислав Куняев в то лето написал мне так:
«Наш брат поэт, когда стихи не пишутся, как правило, впадает в молчанку, переходящую в пьянку».
Прав Куняев!
Позже развил эту мысль:
«Много горького и правдивого в твоём письме, но и глупости есть».
Почему же, Станислав Юрьевич, когда конь опустит копыта на землю, как в памятнике основателю Москвы Юрию Долгорукому — «Здесь быть Москве», то нашу жизнь понимают как горькое, но праведное деяние? А «глупости», если нация говорит не «здесь быть», а «Какой русский не любит быстрой езды», или «Что ты жадно глядишь на дорогу», или «Словно я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне», или «За далью — даль», или «Я буду скакать по полям задремавшей Отчизны», или как у меня:
Белый мой конь дневной.
А ночной вороной.
Белый мой скачет сквозь белый май.
А вороной сквозь собачий лай.
Нами любим завет Чингисхана: «Пыль с копыт в свой след не оседает». Поэтому, когда я писал о ночных и полуденных народах, покойный Марк Сергеев сказал: «Миша, а может, это — не тьма и не свет, а просто заря — спина во тьме, лицо в солнце? Заря как соединительная ткань Бытия, а?».
Вероятно, дорога — «наше всё», фамильное и национальное обозначение и проклятье. Мы всегда уже не в точке А и еще не в точке Б. Ветер — подорожный или не подорожный — не в счёт.
Куда ты скачешь, гордый конь,
и где опустишь ты копыта?
Вот это и есть состояние не уложившегося в своё историческое русло, не умолотившегося на кровавой молотьбе, не запруженного плотиной русского Бытия. Не уложился Виктор Астафьев в «Последний поклон» и «Царь-рыбу», выкричал «Убиты и прокляты». Не отзернился и не умолотился Распутин в «Последнем сроке» и зрелой «Матёре», душа выплеснулась в «погорельщину» публицистики конца XX — начала XXI века.
Да что Астафьев с Распутиным! Пушкин-то, сам Пушкин что содеял в конце жизни? Когда вещают и чревовещают о гении и его недостижимой гармонии, полном и зрелом равновесии разума и Божьего дара, я подозреваю, что русской мысли здесь медведь на ухо наступил. А дуэль — что это? — гармония? Стоила ли сама жизнь «солнца русской поэзии» выхода на Черную речку? Почему же Пушкин-то не уложился в «здравый смысл»?
И разве речь только о писателях, людях неуправляемого Пути, может быть, эзотерического знания и предназначения? Зачем Юрию Гагарину были нужны эти испытательные полёты на истребителях? Мог бы остаться для России живой легендой и патриархом космонавтики на любой другой должности. Зачем «голова в кустах», когда уже «грудь в крестах»? Нелепая гибель Гагарина — гибель чего-то очень дорогого и единственно любимого для каждого из нас. Как же «опустела без тебя Земля», надломилась «смертная связь» с Родиной, не сумевшей уберечь своего всенародного сына.
И горько думать, что не Бог, а мы сами заранее подвигли Пушкина на Черную речку, поощрили Астафьева на «Прокляты и убиты», окрылили Гагарина на испытательный полёт. Вообще, Россия — испытательный полигон для самых светоносных и великих, посланных Богом пострадать за грехи сего мира и сего народа.
Виктор Петрович Астафьев крепко памятен мне по приезду в Читу на праздник книги «Забайкальская осень-82». Во время гостевания на даче казака Балябина я выпросил у Астафьева красноярское издание уже нашумевшей книги «Затеси». Он оставил автограф: «Мише Вишнякову — мою очень интимную книгу о себе, о всех нас. Читай стр. 36 — „Падение листа“». Передавая фиолетово-сиреневый томик, он повторил два раза: «Читай „Падение листа“».
Проводив Виктора Петровича из Читы в Красноярск, я сразу открыл стр. 36 и засел за чтение:
«Медленно, неохотно и в то же время торжественно падал он, цепляясь за ветви, за изветренную кожу, за отломанные сучки, братски приникая ко встречным листьям, — чудилось: дрожью охвачена тайга, которой касался падающий лист, и голосами всех живых деревьев она шептала: „Прощай! Прощай!.. Скоро и мы… Скоро и мы… скоро… скоро…“.
…Я подставил руку. Словно учуяв тепло, лист зареял надо мной и недоверчивой бабочкой опустился на ладонь. Растопорщенный зубцами, взъерошенный стерженьком, холодящий кожу почти невесомой плотью, лист всё ещё боролся за себя, освежал воздух едва уловимой горечью, последней каплей сока, растворенной в его недрах».
Читать дальше