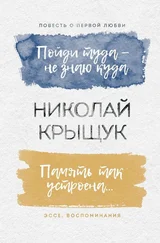В стенгазете «Колючка» я рисовал Ягудина верхом на двойке.
Когда Коля был жив, я боялся оставаться с ним наедине, чтобы нас не сочли друзьями. Теперь, когда его не стало, я боялся, что займу его место.
У Коли было прозвище Дохляк. Он и сейчас вспоминается мне миниатюрным долговязым старичком, погонщиком осла, что ли. Но, может быть, сутулым Коля казался из-за выбившейся из-под ремня и вздувшейся на спине гимнастерки?
Лицо Коли было нездорово. Мне тогда еще показалось, будто лужа бросила на него свое отражение неяркого дня. То есть цвет лица был какой-то не первоначальный. Наверное, он жил в подвале (тогда многие еще жили в подвалах).
Но почем знать, какой цветок должен был распуститься из этого сморщенного бутончика? В добрых влажных глазах Коли не было жалкости, может быть, только какая-то затаенная грусть.
Сейчас мне кажется: вырасти Коля, он был бы похож на вратаря Яшина, на артиста Любшина. Ни в безвольной нижней губе его, к которой, как шутили, прилипали комары, ни в тоскливо свисающем хэбэ, ни даже в нелепой смерти не было ничего фатального. Точно. Не было.
Зачем же я, маленький застенчивый сатирик, рисовал его верхом на двойке, сброшенным брыкливой двойкой на землю, погоняющим отару двоек?.. Как хотели мы все быть примерными! Зачем я так старательно выписывал на рисунке его свалявшееся хэбэ?..
Но я еще иду в первый класс, я еще не знаю Коли Ягудина. В моей душе нет зла. Голуби мира взлетают из-под моих ног и садятся впереди, затрепетав крыльями и на мгновенье отразившись в мокром зернистом асфальте. На мне черный костюмчик, а в руках букет ноготков. Они красивые, на живописно корявых стеблях. Сердцевинный запах осени. Они похожи на маленькие подсолнухи.
Я еще только иду в первый класс и не знаю, что ноготки – цветы клумб, а не оранжерей – дешевые, второсортные цветы. Что эти карлики перед господами офицерами гладиолусами?!
Мне не нравятся гладиолусы, будто проглотившие аршин и вертикально навинтившие на грудь ордена. Мне они не нравятся. Но я не могу не признать их породистости. И когда в вестибюле девчонка – первоклассница, неся их над головой, как какой-нибудь канделябр, громко шепчет про мои ноготки подруге: «И не стыдно такое приносить в школу? Календула. Нарвал, наверное, на улице», – я весь словно погружаюсь в горячую воду. Как предательски я отшвыриваю своих карликов к колену, в тесноту чужих коленей и рук. Бедные мои подсолнухи! С хрустом сломалась сочная корявая ножка, посыпались на каменные шашечки ржавые огненные лепестки. А я не знаю, куда бы их еще спрятать. Они кажутся мне уже не маленькими подсолнухами, а толстыми крашеными мотыльками. Я ненавижу, я стыжусь их.
Не помню, были ли в тот день цветы у Коли Ягудина…
Жили они фактически на кухне.
Собственно, когда К. был совсем маленьким, кухни в квартире не было и керосинки стояли прямо в комнатах. Там же между рамами хранили продукты, потому что холодильников вообще ни у кого не было. Два раза в год белили потолки – от чада и многолюдья они обрастали шерстью, которая шевелилась, вызывая в К. тихий атавистический восторг.
Через несколько лет выселили семью Волынкиных и устроили в их бывшей комнате настоящую кухню: поставили газовые плиты из расчета одну на три семьи, и все стали собираться «у Волынкиных». К. уже тогда догадывался, что не по одной только материальной необходимости тянутся люди на кухню, как не из-за одной только любви к чистоте ходят в баню. Склонность к коллективному переживанию жизни он, можно сказать, впитал с молоком матери.
В комнату заходили только переодеваться и спать, а на кухню – перехватить кусок, похрустеть газетой, с небрежно упакованной тоской, свежим анекдотом, «что-то затылок ломит», молчаливым позвякиванием ложки, «говорят, у Кристалинской рак горла» и «в Китае перебили всех воробьев», «Буря мглою…» и «10 – 7 = 10 – 5 – х»…
Вечерняя вода, просачиваясь сквозь окна, затопляла комнаты, а на кухне уже был включен свет.
К. любил, когда в мороз, взглянув на сползающую ртуть термометра и по-цыгански вздернув плечи, молодая соседка Геля чиркала спичкой и над плитой вырастали три молодые астры. Кухня представлялась баржей, унесенной ветром в море, и каждый, кто изменит их тайному сговору, все равно что шагнет за борт, где можно сгинуть навеки.
«Бедная Лиза», – всхлипывала вдруг тетя Паня, утирая полотенцем припухшие глазки. Волной сочувственной тишины отзывалась ее фраза. Подавал голос чей-то вскипевший чайник со свистком. «А где мои карандаши? Шиши!» – как всегда некстати появлялся дядя Ваня-дохляк. В майке и в бухгалтерских нарукавниках. «Жалко женщину», – строгим голосом, презрительно не замечая возникшее препятствие, продолжала тетя Паня. Чужое несчастье она переживала отчаяннее и принципиальнее остальных.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу