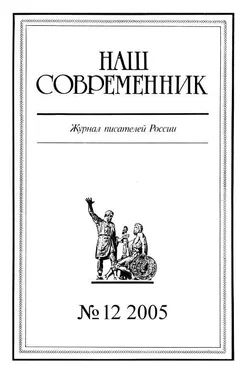Концерт (Свиридов назвал «Пушкинский венок» концертом для хора) начинался с «Зимнего утра». Оно возникло издалёка. И было тем пушкинским утром, которое приветствовал и которому радовался Поэт. Являясь во всех подробностях того далекого и, казалось, неповторимого мига: ведь «всё проходит». Ан нет! Всё ясно, всё зримо, всё не просто слышится — всё видится и всё живо…
Непостижимый дар композитора — не только проникать в века и века, но и вполне реально воссоздавать картину ушедшего времени в живых человеческих образах. И мы не просто слышим музыку той эпохи, но воспринимаем её «на глаз и вкус». В «Пушкинском венке» Поэт не Символ, не Святая тень, не Дух, но соживущий с нами. И в этом суть гениальной музыки Свиридова, так точно воспроизведённой величайшим талантом Юрлова. О котором, кстати, в Советской энциклопедии, изданной в 1980 году (уже спустя семь лет после смерти дирижера), всего лишь три крохотные строчки…
Я не решился во всё наше общение спросить у Георгия Васильевича об этом великом таинстве его творчества. Однако многое стало понятным, когда услышал от него следующее:
«Единственное, что передается нам от предков и что мы передаем потомкам нетленной частицей — это кровь. Только кровь. Душа бессмертна, но и бесплотна. А кровь — живая нить, которая связывает нас, живущих, со всеми ушедшими, без ограничения во времени: от загадочного возникновения до сегодня и до (тоже загадочного) нашего небытия.
Негодники и всякие мерзавцы постоянно пытаются приписать русским бредовую теорию „чистоты крови“. Чего никогда, во всю долгую историю, не было на Руси. Тому нет подтверждения и в тысячелетней истории славянства. О чистоте крови из всех народов до сих пор пекутся и говорят, даже после „арийского безумия“, евреи. Особенно их национальная „верхушка“.
Именно „память крови“ была главным в создании русской нации, характера русского народа. А потому многое непонятное, скажем, Западу в нас объясняется тем, что русские живы этой памятью крови.
Нести в себе память обо всех до тебя живших, не просто хранить её в сердце, но уметь передать людям — это дар Божий!»
Осознанная Свиридовым «память крови» позволяла ему жить не только в эпоху Пушкина и Гоголя, которого он тоже «близко знал», но и в куда более отдаленные эпохи.
Слева от моего рабочего стола, в книжных полках, за стеклом — фотография. На ней молодой, по-сибирски скуластый парень в вышитой рубахе, с орденской колодкой на пиджаке. Над высоким лбом аккуратный зачес с пробором. Ему ещё нет двадцати двух лет. А за спиной этого парня — раннее сиротство, высылка с семьей деда в Заполярье, детдом в Игарке, ремеслуха в Красноярске, а за ней сразу же — запасной полк, фронт, ранение и снова передовая, и опять ранение, и опять фронт. Кромешный ад Днепровского плацдарма. Тяжелейшее ранение в голову, в височную кость, в лицо, в глазницу. На фотографии ранения почти не видно, местный фотограф-умелец сделал всё, как, впрочем, и фронтовые хирурги, дабы скрыть страшную рану. Парень красив и ясноглаз. Но всего пережитого им судьбе было мало. На обороте фотографии надпись, сделанная ломаным, корявым, почти нечитаемым почерком. Какая уж там каллиграфия, когда правая кисть раздроблена ещё одним ранением!..
«Дорогой Юра! А этот, недавно у родственников отыскавшийся кавалер, ещё Чусовской выпечки. Снят в 1947 году в первой, Марьей вышитой рубахе и в костюмчике из американских подарков, купленном на базаре. Все бедствия и надсады ещё впереди, в том числе и туберкулез у обоих супругов, смерть дочки, удаление меня из горячего цеха на улицу — всё это было ещё задолго до знакомства с тобой. Хорошее дело — человеческая память, она отсеивает всё худое из жизни. Обнимаю — Виктор». Такую надпись сделал мне на этой фотографии самый близкий друг во всей моей жизни — Виктор Астафьев.
Георгий Васильевич прекрасно знал классическую русскую и мировую литературу. Часто в обычном разговоре цитировал Гёте и Шиллера, и Бернса, и ещё много известных, а порою и совсем неизвестных авторов прошедших эпох. Шекспира считал самым для себя близким, ценил его неизмеримо высоко.
Невозможно перечислить всех русских писателей, к творчеству которых он обращался постоянно. Русскую классическую прозу знал досконально и первейшими по значимости считал Пушкина, Гоголя, Достоевского и Толстого. Музыку пушкинской прозы ценил особо и воплотил в своей бессмертной «Метели». Считал, что Гоголь совершенно точно определил жанр «Мертвых душ». Как-то сказал:
Читать дальше