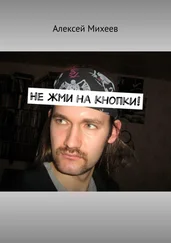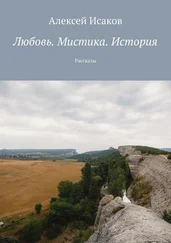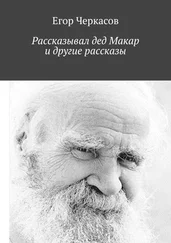Проходят годы, а я помню все совершенно отчетливо, будто это было вчера. Как Шура закуривал после ужина свою "козью морду", говоря: "Не понимаю людей, которые не курят. Что они делают после еды?" — и безмятежно лежал у костра, разувшись, босиком, подвинув к огню свои пятки.
Я вспоминаю это, сравниваю себя с ним и каждый раз задаю себе один и тот же вопрос: а я, я, со всеми своими высокими воззрениями и стремлениями, со всеми своими заботами и делами, с бурной деятельностью, вследствие которой я все реже и реже выбираюсь в поле, в лес, на охоту, со всеми своими высокими помыслами и порывами и гордым высокочеловеческим взглядом на мир, так же ли я счастлив, как Шура?..
Сначала это проскакивало где-то в дальних уголках сознания. Какая-нибудь мелочь, просто сцена, «и она с ним», чушь какая-то… Подозрительность ее поведения… Но он не давал этому хода. Если дела шли неплохо, в гостиницу он устраивался сразу, материал в архиве был классифицирован, каталог существовал, и работалось хорошо, ему было довольно легко ото всего этого отмахнуться.
Но на четвертый-пятый день это начинало появляться чаще, какой-то частью сознания он отмечал уже назойливость таких «мелочей». Но продолжал работать, снимал копии, перелистывал страницу за страницей, выстраивал подходящую систему и начинал уже переносить написанное на машинку, уже зная, что вот «оно» присутствует за порогом и ждет только, чтобы на него обратили внимание. Он пытался отогнать, отделаться от этой помехи и даже наконец говорил себе:
— Ну и пусть, п у с т ь, ПУСТЬ она там! Ну, подумаешь? Ну и что, ну и что?!
И странно, такой поворот мыслей действовал. Он на некоторое время успокаивался. Пустяковость, несущественность всего этого — а это только так и должно восприниматься умом и всеми: глупость, ломаного гроша не стоит, суета, извечная история, старо как мир — при сладкой уверенности в себе, в ценности своей работы, своих способностей, большей ценности, чем подобная дребедень — приносила облегчение.
Но ненадолго. Облегчение иссякало, и вскоре все начиналось сызнова.
И все же, как бы там ни было, все эти беспокойные мысли продолжали стоять еще на пороге сознания, еще не прорывались в него, и он боролся с ними. И когда они все-таки охватывали его полностью, проникали в его действительность и явь, в его деятельную сознательную жизнь, он каждый раз — столько раз, сколько уезжал в командировку — каждый раз помнил, что это он сам себе позволил, сам дал добро этому случиться.
— Ладно, чуть-чуть подумаю, — разрешал он себе. И уже знал, что это конец, капитуляция; знал: стоит лишь разрешить себе об этом думать, и обратной дороги уже нет! И зная, не удваивал, как бы следовало в такой ситуации, сил, а, прикидывался, будто не понимает, что к чему, будто не знает, куда такое позволение ведет, будто запамятовал, обманывал себя, врал себе — настолько сильно ему все-таки хотелось почувствовать себя несчастным. Ведь горемыкой, как известно, является не тот, кто на самом деле горемыка, а тот, кто считает себя таковым…
— Ладно, подумаю… Нет ничего на свете, бессмысленность чего нельзя было бы доказать умом. Значит так. Я ревную. Что это такое? Это значит: я хочу, чтобы другой человек не обращал внимания ни на кого, кроме меня. В то же время себе-то я такое позволяю, да иначе и не может быть — везде люди вокруг нас… Это значит я хочу, чтобы другой человек не хотел нечего такого, чего бы не хотелось мне, и хотел бы только то, что меня устраивало бы. Иными словами, чтобы другой, чужой — не-я, значит, чужой — человек не имел права по собственной воле распоряжаться собой и собственным телом… Но это же бессмыслица! Это какой-то детский эгоизм… И, наконец, это просто чувства. Только чувства…
Но вся эта старательно возводимая конструкция, словесная фигура, рушилась совершенно, до основания, так, что не оставалось камня на камне, от единственной, следующей в ходе рассуждений за подобными соображениями картиной, в которой она с тем, с другим, делает то же, только ей свойственное, характерное движение животом.
— Боже мой! — Его даже холодный пот прошибал на мгновение. — Не надо было разрешать себе думать!..
И ведь какая дикость!.. Это все результат нашего воспитания. Наша моногамия, ориентация только на двоих, покров таинственности на всем, что связано с вопросами пола, тайна — все это безумие, которое мы создаем себе сами и создаем искусственно, превращая естественное орудие природы в какое-то божеское откровение и придаем ему наисвященнейший смысл. Но зачем все это? Если это так болезненно?..
Читать дальше