Но на этом мои беды не кончились: я сел за парту, поднял глаза и тотчас обнаружил, что почти ничего не вижу без очков. Если наставник и предлагал мне смотреть в потолок, то, очевидно, потому, что это занятие не отличалось увлекательностью и нечего было и сетовать на нечеткость изображения — невелика потеря. Намного больше беспокоила меня зеленая доска: она покрывалась белесыми значками, их невозможно было разобрать с моего места — словно белое облако пыли, поднимавшееся над губкой, которой протирали доску, носилось в воздухе, заполняло пространство, сгущаясь вдали. Вдобавок взгляд застилало слезами, и всё это мутным месивом расплывалось у меня перед глазами, отгораживая от мира, обостряя чувство одиночества, и я только укреплялся в своем стремлении к обособленности.
Я взял очки, вернее, то, что от них осталось, и подумал с тоской, во что обошлась мне эта катастрофа (небьющиеся стекла, конечно же, стоили дороже, и возмещения по медицинской страховке за них не полагалось вообще, а если и полагалось, то такое ничтожное — просто сплошное издевательство: к этой теме постоянно возвращалась наша семья очкариков со скромными доходами, и мы склонны были видеть в подобных гонениях на слабовидящих особую форму человеческой несправедливости, имманентно присущую зрячим, не говоря уже о том, что коммерсанты — еще один лейтмотив семейных разговоров — существа совершенно бесправные, в отличие от государственных служащих, которые и на транспорте ездят задаром, и на детей получают пособия, и работают, когда им заблагорассудится). Я нацепил очки на нос. Перед правым глазом свисала перекрученная восьмеркой нейлоновая нить, зато левым я видел всё необыкновенно отчетливо, потому что оправа погнулась от удара и уцелевшее стекло сидело в глазу наподобие монокля — в прошлом году такой посадкой очков отличался Жиф.
Попеременно закрывая то один, то другой глаз, я мог наблюдать две картины мира — на выбор. Одна из них — ясная и недвусмысленная, где отчетливо выделялись сардоническая улыбка нашего наставника, грамматическое правило на доске, лапы и клюв трехпалой чайки (цвет которых позволял отличить ее от чайки серебристой), форма листьев на деревьях во дворе (выдававшая в них липы), весь этот мир, уверенный в собственной реальности и потому безбоязненно выставляющий себя на обозрение, а другая — с Вселенной, сжавшейся в комок, с горизонтом на расстоянии трех метров — туманная и расплывчатая, торжество неопределенности, где небо — опрокинутое море, а облака — кипучая морская пена, где ни о чем не поведает зеленая доска под белым меловым покрывалом, лица безлики и бесхитростны, а сама жизнь, ускользающая от определений, невнятна и неосязаема, словно она томится в передней в ожидании нового мира.
И еще одно обстоятельство: элементарные законы физики изменяются в мире слепых. Здесь звук распространяется быстрее света. Вы понимаете, что обращаются к вам, по голосу, а не по взгляду. Шум мотора, а вовсе не вид приближающегося автомобиля, который появляется в последний момент, удерживает вас на тротуаре. Вас оставляют равнодушным кокетливые взгляды, но ласковое слово волнует до слез. Морщины разглаживаются, и лица — так же, как и голоса, — надолго сохраняют молодость, а потому мир вокруг вас не так подвержен старению, как о том говорят окружающие.
Стоит ли убеждать вас в преимуществе зорких глаз? Они удержат вас от попыток раскланяться с фонарем, сесть на собственные очки, вы не будете рваться в дверь ресторанной кухни, направляясь в туалет, или искать иголку в стоге сена, перепутав его с соломой, но там — за чертой жизни, утратившей звонкость (как звук в тумане), где я пребывал с того рокового Рождества, в сгустке сумерек, непонятности смерти, окутавшей живых, — бесполезно искать ясности и света.
В сущности, от Фраслена требовалось немногое — даже не сочувствие, а лишь малая толика участия. Все же потеря была велика, и хотя бы из сострадания не стоило подливать масла в огонь. Надев очки, явно предназначавшиеся для кривых, и взяв сочинение, я не поверил своим глазам. Мой мучитель варварски исчеркал все страницы красными чернилами и поставил самую низкую оценку, но и этого ему показалось мало: в нескольких строчках уничижительного комментария он утверждал, что пишу я очень неточно и темно («Где вы видели, чтобы крест качался?» — с чем нельзя не согласиться, конечно, крест не качается даже на ветру, но нам часто твердили о необходимости разнообразить свой словарь, используя глаголы движения вместо вспомогательных, и мы из боязни сделать что-нибудь не так впадали в подобного рода невольные ошибки) и что мое сочинение совсем не на тему (напомню: следовало описать воскресный день в деревне).
Читать дальше
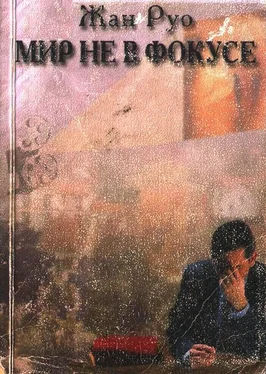
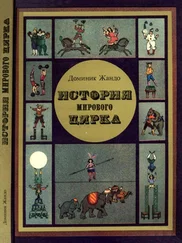
![К. Миллс - Зимний мир [ Зимний мир. Книга Брандеры. Книга Жанны]](/books/70354/k-mills-zimnij-mir-zimnij-mir-kniga-brandery-thumb.webp)









