В этом по-монастырски суровом мире молчание было правилом, которое соблюдалось неукоснительно, исключение составляли двор, куда мы выбегали на переменках, и наша трапезная — но и там нужно было дождаться предобеденной молитвы, произнесенной по-французски: «Господи, благослови нашу трапезу», — на что, стоя каждый у своего стула, молитвенно сложив руки и всем своим видом выражая притворную отрешенность от всего мирского, мы отвечали «аминь», а Жиф — «тьфу ты черт» (не заостряя внимание на этой кощунственной фразе, надо признать, что еда наша не отличалась изысканностью), после чего вышеупомянутый Жужу громко хлопал в ладоши, подавая летающим за окном чайкам знак, который с некоторым сомнением мы относили также и на свой счет — рассаживались по местам, и поднимался галдеж. Конечно, не очень громкий. Лишь намек на настоящий гвалт, обычно сопровождаемый метанием творога или пюре и иного рода меткими бросками, которые мы пытались изобразить, отчего наши ложки превращались в мортиры и требюше, нацеленные в товарища или в лампы на потолке, а средний палец, упиравшийся в черенок, служил предохранительным клапаном — наши надзиратели при этом проявляли чудеса бдительности, призывая нас к порядку всякий раз, когда звуковая волна, отражаясь от оконных стекол и кафельного пола, достигала критической отметки и шум превращался в общий гул. Тогда раздавался новый хлопок, еще более звонкий и энергичный, чем первый: нас просили сбавить тон, предупреждая, что в противном случае мы будем обречены молчать до самого конца обеда под звон стаканов и стук вилок и ложек о тарелки. Но больше всего удивляло то, что в этой атмосфере цистерцианского аббатства в центре внимания был совсем не Жиф, а один тихий мальчик — образец скромности в обычной обстановке: он громко рыгал, и в том находил способ самовыражения, используя свой поразительный дар издавать эти звуки по просьбе товарищей. Общий вольный смех звучал тем более уверенно, что в столовой мы не боялись шалостей, которые могли обернуться против всех. Страдал только один наш чревовещатель; зарабатывая в наказание неизменные сто строк «я никогда больше не позволю себе подобных нелепых выходок», он пытался оправдываться: все рентгеновские снимки подтверждали, что у него аэрофагия. Он торопливо задирал рубашку, выставляя на обозрение воздушный мешок, ставший причиной всех его бед, однако от него ждали вовсе не этого: пусть лучше приставит руку ко рту и… — очередные сто строчек были ему обеспечены. Но какое значение имели они в сравнении с минутой всеобщего признания?
На уроках мы и думать не смели о такого рода вольностях. Рот можно было открыть исключительно по сигналу наставника, что не сулило ничего хорошего. Того, кто обычно знал урок, к доске никогда не вызывали: ведь если он и так все знает — всегда один и тот же ученик — зачем его вызывать? Но именно это и не давало ему покоя: его тяготили знания, которыми он не мог щегольнуть перед всеми и от которых ждал большего, нежели хвалебного отзыва на первом листе работы, не предназначенного для чужих глаз, ему хотелось, чтобы о его неоспоримом превосходстве узнали другие. Иногда он совершенно забывался, в нетерпении тянул руку и, досадуя на своего невежественного соседа, начинал даже щелкать пальцами, чтобы привлечь к себе внимание, и было ему, несчастному, невдомек, что наше начальство намеренно не замечает его с высоты своей кафедры. В результате такой настойчивости его звонкое щелканье оборачивалось против него самого. И тогда, растеряв все преимущества, которые давали его знания, он, как простой двоечник, получал задание: переписать сто раз во всех временах и наклонениях «в классе не принято щелкать пальцами», впрочем, это не составляло для него большого труда, поскольку он блистал во всех областях — и в грамматике, и (что уже совсем несправедливо) в спорте. Но, по правде говоря, он расплачивался за свои отличные отметки: наказание должно было снять всякие подозрения в пристрастном отношении к любимчикам.
Если к доске не вызывали ученика, знающего урок, то единственно затем, чтобы спросить того, о ком было доподлинно известно, что он урока не знает и никогда знать не будет, разве только случится нечто невероятное. А тот все прекрасно понимал и потому прятался за спиной товарища, стараясь стать совсем маленьким и незаметным, вжимался в парту, точно желал благодаря чуду — какой-нибудь немыслимой мимикрии — слиться с поднимающейся деревянной крышкой, пока наставник в поисках жертвы обводит взглядом класс, выбирая самого невежественного из всех, ни на минуту не задумываясь о том, что в этом невежестве отчасти виноват он сам. Вот он задержал свой взор на правом ряду парт, и вы внезапно ощутили невыразимое облегчение с примесью сострадания к бедняге по ту сторону прохода, а, впрочем, какая разница — он или вы. Когда-нибудь наступит и ваш черед. Но вдруг вытянутая рука вашего ментора резко отклоняется от направления взгляда, образуя с ним тупой угол, и указательный палец внезапно останавливается на вас, а за ним следует и улыбка — учитель, наконец, поворачивает голову в вашу сторону: он счастлив — его грубая шутка снова удалась.
Читать дальше
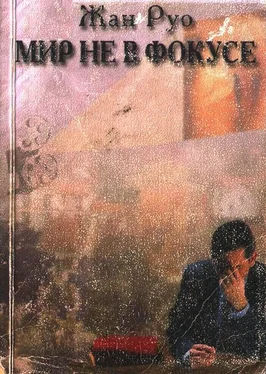
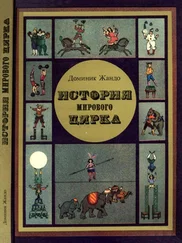
![К. Миллс - Зимний мир [ Зимний мир. Книга Брандеры. Книга Жанны]](/books/70354/k-mills-zimnij-mir-zimnij-mir-kniga-brandery-thumb.webp)









