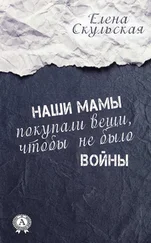Корками хрустели свиньи, выскочившие из первых рядов и вскинувшие копыта на сцену; они давили растрескавшимися, разбитыми копытами на возвышение, пригибали сцену к земле, ставили ее на колени, перебивали ей хребет и бежали потом по ней, как по сладкой болотной слякоти, выложенной телами – сломленными ветками, когда они еще могут вскинуться в последний раз и разбрызгать росу.
Ветка вскидывалась в последний зеленый раз и видела дерево с надорванными корнями; их черные отточенные грифели были похожи на ноги танцоров: раз взлетев, они успевали оставить в воздухе свой росчерк, свой автограф, свою памятку и только потом складывали карандаши с заостренными носками черных тапочек в пенал приземления, ввинчивались в землю, ломали грифели, сваливались на полную ступню, задыхались, задыхались уже всем телом дерева, хватались за сердце, бок рвался, раздирая дупло, в котором хранилась записка о том, что он будет ждать ее всегда-всегда-всегда… И ворона, разгладив лапками записку, отнесла ее в клюве к свету и только там прочла, прихлебывая из лужи и скашивая пуговицу глаза на почерк с придыханием листвы.
Ворона ушла, переваливаясь, к кустам; она давно заметила, что ходит как утка, перенимает походку своего врага, как первобытный человек, раскрасивший себя для первой охоты, но там, в ее кустах, уже сидела женщина и протягивала мужчине котлету:
– Ешь котлету, ее можно есть, только чесноку нужно побольше класть.
– Но ведь это не собака? – спрашивал мужчина жалобно и ел котлету.
– Не собака, не собака, – отвечала женщина и протягивала ему еще одну котлету.
Он брал и говорил, утирая рукавом глаза:
– Скажи мне правду, это ведь не собака?
– Не собака, не собака, – баюкала женщина.
– Не собака?!
– Да какая же собака?! Щенок это, маленький щенок! Только что родился.
– Арчи, Арчи, не о том ты сейчас говоришь.
Арчи и не говорит вовсе, он давно спит и видит во сне деревья, вставшие на цыпочки – в крахмальных пачках осенней балетной листвы. Да и спит он совсем не здесь, не на ее кухне, а у себя и видит во сне, как деревья, вставшие на цыпочки, загораживают собой дома, которые с одышкою и жаром до дурноты тащатся вниз, к площади, чтобы вздохнуть свободней. Он задыхается и хочет открыть окно, но деревья во сне заслоняют его окно, чтобы и его дом в черепичной пилотке попробовал добраться до площади. Он видит во сне, как дом замирает, только створки дверей еще дышат на петлях, но оттопыренный локоть фонаря, всегда подставленный на повороте, уже не страшен.
– Арчи, Арчи, не о том ты сейчас говоришь.
Он ее почти не слышит, да и она не ждет от него ответа, она собирает на наслюнявленный палец крошки белой таблетки. Врач назначил ей четверть таблетки; она ножом расколола таблетку, одна из четвертей рассыпалась; она сначала проглотила целую четвертинку, машинально пеняя ему: «Арчи, Арчи, не о том ты сейчас говоришь!», а потом стала собирать по столу вторую четвертинку, облизывать пальцы и глотать.
Жирафья шея подъемного крана повернулась в небесах, высокомерная маленькая голова оглядела саванну и настигла переулок, уже пробравшийся к площади. Голова стала рыться в верхушках деревьев, срывать их; листья выпадали изо рта и скатывались по крышам. Арчи во сне хотел как-то подстроиться под эту крепкую маленькую жирафью морду крана, он закричал, указывая в окно на тот дом, что все равно умирал:
– Вразвалочку идешь на снос?! И нечего хвататься за соседние дома веревочными ручонками с подсиненным бельишком! А о чем же, о чем же мне сейчас говорить, – спрашивал он ее, услышав наконец ее упрек и понимая, что она уже наглоталась лекарства и нужно бежать к ней, это близко, но никак не проснуться.
И она спит. Тут же, на кухне. Двери в комнаты и в лоджию не открыть, а если бы и открыть и протиснуться, то потом все равно не выйти, так и остаться навсегда, доедая крупу из железной банки в красный горошек и спасаясь от цинги чесноком и луком, когда-то, при других жильцах, вынесенных на лоджию, а потом вдруг найти соль и обрадоваться, потому что в соль можно макать лук, и сразу становится вкусно и можно, приободрившись, подумать о том, как все-таки выбраться отсюда; выбраться нельзя, тут и умереть и сгнить, но пока в это совершенно не верится, – там старые вещи, холодильники с чьих-то разрушенных дач, швейные машинки, ношеные платья, завязанные в узлы для бедных.
Тридцать лет совместной, но раздельной жизни, – она никогда ничего не выбрасывала, ничего.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу