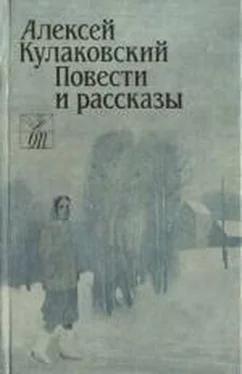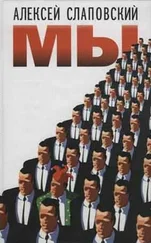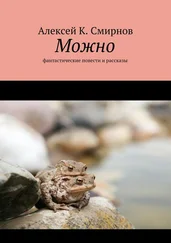И до самого рассвета Якуб Дробняк не уснул.
1955
Рассказ
Перевод с белорусского Эрнеста Ялугина .
Тихо отворяется дверь на веранду... Когда-то надумал я пристроить ее к отцовской хате: небольшенькую, с некрашеным дощатым полом.
...Мне слышится слабое шарканье по полу. Но ненадолго. За невысоким порожком - сенцы и там глиняный дол. Шаги глохнут в глине.
Я знаю, это идет ко мне мать.
- Принесла тебе малинок, - будто оправдываясь, говорит она. - Мытые.
В одной руке ее - голубая кружечка, доверху наполненная свежей малиной. Издалека это можно принять за букет. В другой - можжевеловая кочережка, кривая и сучковатая, однако, верно, весьма сподручная для матери, ибо никакой иной она не пользуется.
Рука с кружечкой дрожит. Я встаю навстречу, чтобы принять этот духовитый дар и поставить на стол, однако мать говорит:
- Ты пиши, пиши... Я сама поставлю.
Потом она садится, цепляет кочережку за подоконник.
- Ты пиши, пиши, - повторяет она. - Я не стану мешать. Посижу немного и пойду себе в ту хату.
"Та хата" - братнина. Она с большой печью в передней половине. Там мать ночует, но иногда лежит и днем. А у меня печки нет, только грубка, всегда холодная и сыроватая. Но мне здесь работается - здесь уютно, одиноко, и окна выходят на выгон, за которым белеют свежие этажи нового города.
- Ешь малинку, - приглашает мать. - Ешь и пиши себе. Может, тебе ясик принести?
Я гляжу на матулю немного растерянно - призабыл за многие годы городской жизни, что такое "ясик", не могу догадаться, для чего он мне.
- Подкладешь под спину, - продолжает мать. - Мягче тебе будет писать...
Вспомнил: так называют наши деревенские маленькую подушечку. Нет, обойдусь. И без нее удобно - стул обит штапелем. Благодарю мать за малину. Сначала смотрю на ягоды, любуюсь, а потом беру одну, аж темную от спелости, смакую.
- Это над сажалкою у нас, - говорит мать, - самые крупные и сочные.
И верно - сочные, тают во рту.
- Ты пиши, - повторяет мать. - Даже и внимания не обращай, что я тут, при тебе.
И не знает матуля: потому и пишу, что она всегда тут, со мной.
1976
Рассказ
Перевод с белорусского Эрнеста Ялугина .
В Краснодар я собирался давно.
- Мне бы палату грудников... Знаете? - сказал я, пытаясь узнать санитарку. Это была уже довольно пожилая женщина с увядшим морщинистым лицом, а с тех пор, как я ее мог видеть, минуло тридцать с лишним лет.
- А, вот тут, на втором этаже, - охотно ответила санитарка.
Тогда главврач скрипнул начищенными сапогами, уточнил:
- Товарища интересует не новая палата, а военной поры, офицерская. Вы должны помнить.
Санитарка с какой-то печалью прищурила глаза, внимательно всмотрелась в меня, потом спросила тихо:
- И вы были там?
- Был.
- Я тогда в другой палате работала. Но, кажется, припоминаю вас... А медсестра у вас Маша была, черненькая такая...
- Вот, вот, - обрадованно, словно сейчас увижу ее, подтвердил я. - А теперь она...
- Ничего не знаю. Пошла в медсанбат в сорок четвертом и не вернулась.
Бывшая фронтовая палата грудников заново выбелена и переоборудована, как и весь госпиталь, однако я узнал ее сразу. Палата большая, с тремя широкими окнами, и лежало тогда нас тут человек двадцать, койки стояли почти впритык.
Мне выпала койка в углу за шкафом. Самое несветлое место - читать было трудно. И самое беспокойное, хоть и обособленное, - рядом находился стул, на который присаживался каждый, кто заглядывал в палату: врачи, медсестры, представители шефских организаций, случайные посетители.
Койки в том углу теперь не было. Однако мне она так живо представилась, что в моей правой ключице, уже давно зарубцевавшейся и почти забытой, вдруг шевельнулось что-то, заныло и напомнило ту боль, которая заслоняла мне прежде свет в палатных окнах.
...В минуты просветления, а особенно потом, когда дело пошло на поправку, я невольно наблюдал из своего угла за товарищами по беде. Помню, как их перевязывали. Невозможно было не отвести глаза: раны у многих страшные, почти безнадежные. А эти раненые шутили с медсестрами, посмеивались.
И вспомнилось, как появлялась в палате раздатчица с подносом нарезанного ломтями хлеба и некоторые начинали выкрикивать, словно дети:
- Горбушку мне, горбушку!
Особенно как-то настырно получалось это у одного младшего лейтенанта, совсем еще молоденького, видно, только недавно окончившего школу. Ему всегда давали эту горбушку, будто маленькому.
Читать дальше