– Вы понимаете, жители молодой республики должны знать, как живет старая Европа, – сказал он, усмехаясь.
Впрочем, за вступление в тайное общество надо было заплатить взнос – двадцать франков. У нас было только тринадцать, и Борис, в приступе обычной для него прижимистости, дал пять, пообещав донести остальные, когда придем в следующий раз – «уж точно с узлом белья», добавил он.
На оставшиеся деньги мы купили вина и хлеба, этим своеобразным причастием отпраздновав наше вступление в подпольную коммунистическую организацию.
Я быстро уснул, но посреди ночи Борис разбудил меня.
– Знаешь, – сказал он, – я к ним больше не пойду.
– Сто пятьдесят франков, – сказал я, зевая.
– Все равно, – Борис покачал головой, – не могу.
Он посмотрел на меня – видимо, вид мой был жалок, потому что Борис сразу добавил:
– Но, если хочешь, ты иди. Это нормально, почему нет?
Я пожал плечами и снова опрокинулся на тахту.
– А как же пять франков? – спросил я.
– Ну и черт с ними! – сказал Борис, повеселев.
Засыпая, я думал, что сто пятьдесят франков – в самом деле хорошие деньги, а перевод статей – ну, что же, это всего-навсего перевод статей.
Я так и не пошел в прачечную, а через неделю нашел работу официанта. Через полгода сдал экзамен на знание парижских улиц и управление автомобилем, получил необходимые бумаги и стал таксистом.
Где-то за Сеной небо озарилось вспышкой, потом над головой загрохотало. Приближалась гроза, и канонада грома снова напомнила мне об Испании. Интересно, подумал я, может ли так случиться, что Борис встретит молодого Туркевича?
И кому из них я хотел бы пожелать удачи?
(Анита)
Светловолосый хлыщ вещает о наркотиках. Я смеюсь хрипло:
– О, нет! Мне наркотики не нужны – я все это ношу в себе! Я слышала много рассказов, но я бываю в таком состоянии без гашиша или опиума.
– Главное – знать надежных людей, – говорит блондин. – Париж полон мошенников. Тут в прошлом месяце заходил ко мне какой-то тип, спрашивал, нужен ли мне М или О. Я, разумеется, сказал, что не понимаю, о чем он, и быстро спровадил. Но на следующий день он снова заявился, говорит: «Вот, мы договаривались, я вам принес опиума и морфия. И, знаете, теперь я могу вас сдать полиции!»
Блондин смеется довольным смехом человека, никогда не имевшего дело с полицией. Я сдержанно улыбаюсь в ответ и снова опустошаю стакан.
– А я ему на это: «Это вряд ли, приятель. Потому что я сейчас позвоню – и я называю имя моего знакомого, очень известного человека, с большими связями в правительстве, – и тогда уже с полицией будете иметь дело вы!» Ну, он взмолился, чтобы я не губил его, поклялся, что больше я его никогда не увижу, и тут же смылся. Каков подлец, а?
– А вы знаете, – говорю я, – в прошлом году был случай. Один молодой человек решил покончить с собой, но ему было страшно одному. И вместо того чтобы найти себе такую же подружку, он отловил в кафе какого-то шапочного знакомого и предложил вместе принять кокаина или морфия. Пришли к этому знакомому домой – и к утру оба были уже мертвые. А знакомый этот и понятия не имел, представляете?
Смерть от морфия – трусливая смерть. Настоящая смерть должна быть как солнце, черное солнце небытия: смотреть на него невозможно, но именно эта невозможность делает ее столь гипнотически притягательной.
Мне хотелось бы умереть смеясь, в полном осознании своей смерти – и я стараюсь жить, как научила меня Мадлен: в состоянии экстаза, упоения полнотой жизни. Малые дозы, скромные любовные истории, полутени не трогают меня больше. Я люблю чрезмерность: книги, рвущие изнутри свои обложки, сексуальность, от которой лопаются термометры, и стихи, способные разбить окно, как брошенный булыжник.
Барселона взорвалась во мне чудовищным тропическим цветком. Вернувшись в Париж, я словно сошла с ума. Во мне клокотала обретенная страсть.
Однажды ночью, в маленьком клубе, где танцевали чарльстон и линди-хоп, я отдалась чернокожему музыканту – прямо в гардеробе, за мокрыми пальто, воротники которых пахли дохлыми крысами. Негр целовал меня огромными, будто распухшими губами, а я думала, что в Бостоне было невозможно помыслить о подобном: он бы не осмелился.
Но на Кубе… Я была маленькой девочкой и ничего не понимала про секс, но сейчас мне кажется, что на Кубе страсть не знает расовых ограничений. Помню, на грани обморока мелькнула мысль: Париж – Гавана северного полушария.
Я не ушла от мужа, но когда он уезжал из Парижа, не скрываясь жила с Даньелем какой-то странной, лихорадочной жизнью. Однажды неделю мы делили стол, кров и постель с семнадцатилетней бретонкой, приехавшей в Париж в поисках не то куска хлеба, не то приключений. Потом я рассталась с Даньелем ради Пьера, моего психоаналитика – но через полгода вернулась, потому что после Мадлен только Даньель чувствовал смерть, которая шевелилась внутри меня, только он слышал подземные толчки счастья, ужаса и страсти.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
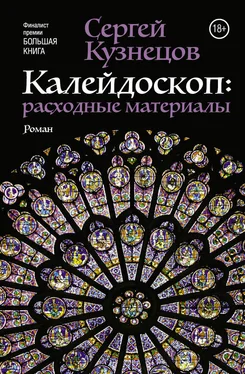






![Сергей Григоров - Калейдоскоп [СИ с издательской обожкой]](/books/394515/sergej-grigorov-kalejdoskop-si-s-izdatelskoj-obo-thumb.webp)



