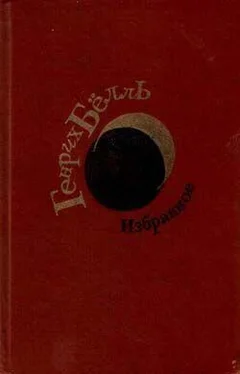После этого Брилах целую неделю не ходил в пекарню, и Мартин пытался представить себе страдания Брилаха, воображая себя на его месте, – как он сам тяжело переживал бы, если бы это слово сказала – его мама. Он испытывал это слово, мысленно вкладывая его в уста всех своих знакомых, но из уст дяди Альберта просто невозможно услышать такое слово, а вот в устах его собственной матери, – тут сердце Мартина начинало биться сильней, и он понимал, как страдает Брилах, – в устах его собственной матери это слово казалось возможным. Никогда бы не произнесли это слово Билль, Больда, Глум, мать Альберта и бабушка тоже; это слово никак к ним не подходило, а вот если бы его мама произнесла это слово, оно прозвучало бы, пожалуй, вполне естественно.
На всех – на учителе, на капеллане, на бармене – на всех испытал он это слово, но был один рот, для которого это слово просто было создано, как пробка для бутылки с чернилами, – это был рот дяди Лео. Лео произносил его гораздо ясней, чем это сделала мать Брилаха.
Маленькая прогульщица совсем скрылась из виду, было уже почти без четверти два, он пытался представить себе, как она входит в класс; она улыбнется и что-нибудь наврет, потом ее будут отчитывать, а она все будет улыбаться. Это уж совсем отчаянная . Потом ее, конечно, переломят , – и хотя он давным-давно уже знал от Альберта, что никто не убивает детей для еды, но все равно старался представить себе, как девочка, наломанная на куски, попадает на кухню в погребке Фовинкеля. Он нарочно давал волю своей фантазии, потому что злился на Альберта и хотел ему досадить. Потому что не знал, куда деться, – ведь у Брилаха еще не ушел дядя Лео, а ему не хотелось видеть рот, к которому так подходит это слово; пустая, безлюдная церковь, где сейчас прибирает Больда, пугала его не меньше, чем перспектива угодить в погребок Фовинкеля, где посетители пожирают наломанных детей, где его обязательно стошнит в пакостном туалете среди мерзких живодеров.
Он еще ближе подошел к «Атриуму» и тут почувствовал, что проголодался. Оставалось еще одно: пойти домой, тихонько прокрасться на кухню и разогреть обед. Он наизусть уже знал инструкцию по разогреванию пищи, инструкция была написана на отодранном от газеты клочке бумаги: «Не открывай газовый кран до отказа – не отходи от плиты» (три раза подчеркнуто). Но вид холодной еды всегда портил ему аппетит – об этом как будто никто еще не догадывался, – застывший жир подливки, засохший картофель, густой, весь в комках суп, – и ко всему опасность, что в любой момент может появиться бабушка. Полсотни рыбных блюд в ресторане Фовинкеля – красноватые, синеватые, зеленоватые куски рыбы, мерзкие пузырьки жира скатываются по кожице угря, прозрачные зеленоватые, красноватые, синеватые соуса, сморщенная кожица отварной пикши, похожая на кучку крошек, оставленную карандашной резинкой.
Альберт все не идет и не придет, и, чтобы отомстить Альберту, он начал повторять это гадкое слово и повторял его до тех пор, пока оно наконец не зазвучало в устах Альберта.
Думать об отце было очень грустно: убитый где-то на чужбине, молодой, слишком молодой человек, улыбающийся, с трубкой во рту, он ни за что не смог бы произнести это слово.
Капеллан вздрогнул, когда Мартин сказал ему это слово на исповеди. Сказал нерешительно, весь покраснев, чтобы как-то освободиться от этого слова, которое они с Брилахом не решались повторить даже с глазу на глаз. Бледное лицо молодого священника передернулось, капеллан скорчился, будто переломленный . С невыразимой печалью покачал он головой – не так, как человек, который хочет сказать «не надо», не так, как человек, который удивлен, а просто как человек, который еле держится на ногах и вот-вот упадет.
От лилового занавеса печальное лицо капеллана казалось призрачным, как у великомученика, он вздохнул и потребовал, чтобы Мартин все рассказал ему, и заговорил о мельничных жерновах ; эти жернова привязывают на шею тому, кто соблазнит ребенка; потом он отпустил Мартина и попросил, только попросил, а не наложил покаяние, каждый день читать по три раза «Отче наш» и три раза «Богородице Дево, радуйся», чтобы вытравить из себя это гадкое слово. И сейчас, сидя на ограде, Мартин трижды про себя повторил эти молитвы. Он больше не смотрел на проносившиеся машины; пожалуйста, пусть Альбертов «мерседес» проезжает мимо. Он молился медленно, с полузакрытыми глазами и при этом думал о мельничных жерновах. Мельничный жернов был привязан к шее Лео, и Лео тонул, шел ко дну, все глубже и глубже сквозь синевато-зеленую темень моря, а мимо проплывали диковинные, все более диковинные рыбы. Обломки погибших кораблей, водоросли, ил, морские чудища, и Лео шел ко дну, увлекаемый тяжестью жернова. Не на шее у матери Брилаха был этот жернов, а у Лео, у того самого Лео, который издевался над Вильмой, грозил ей щипцами, бил ее по пальчикам длинной пилкой для ногтей, у Лео, чей рот был просто создан для этого слова.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу