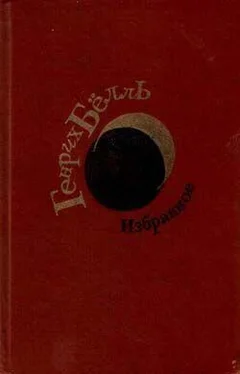Всего бы лучше вернуться на макаронную фабрику Бамбергера: желтые, такие аккуратные трубочки макарон, темно-синие коробки и огненно-красные открытки – маслено-желтые волосы Зигфрида, маргариновые волосы Кримгильды и глаза Гагена, черные, как монгольская бородка Атиллы, черные, как тушь для ресниц; ухмыляющееся круглое лицо Атиллы, желтое, как свежая горчица, и наконец розовокожий Гизельгер и человек с лирой в коричнево-красном уборе, Фолькер – такой красивый, красивее, на ее взгляд, чем сам Зигфрид; и языки пламени в горящем замке – красное и желтое смешались, как кровь и масло.
По вечерам – яркий розовый свет в кафе Генеля. Желтоватое банановое мороженое – пятнадцать пфеннигов порция, еще можно пройтись с Генрихом, облаченным в форму танкиста, до «Осы», где царят сверкающие желтые трубы: улыбающийся ефрейтор, улыбающийся унтер-офицер, улыбающийся фельдфебель сгорел прямо в танке где-то между Запорожьем и Днепропетровском, мумия – без солдатской книжки, без часов, без обручального кольца, не вернулся с задания и не попал в плен.
Смеяться умел только Герт: стройный маленький облицовщик, он мог смеяться даже ночью, в самые интимные мгновенья. С войны он привез трофеи – семнадцать пар ручных часов, и все, что он делал, он делал смеясь. Он смеялся, заравнивая гипс при облицовке дома, и, когда он обнимал ее, она видела в темноте его смеющееся лицо, склонившееся над ней, иногда его улыбка была печальной, но все равно он улыбался. Потом Герт перекочевал в Мюнхен: «Не могу так долго сидеть на одном месте». Он был лучший друг Генриха, единственный человек, с которым иногда, не стесняясь, можно было поговорить о муже.
Врач на той стороне улицы открыл окно, выглянул на несколько минут и выкурил очередную сигарету – толстую самокрутку. Триста марок задатка – да каждый месяц сколько? Надо будет поговорить об этом с мальчиком – он подсчитает и прикинет. Ведь сумел же он как-то поужаться за счет питания, сэкономил на туфли, чулки и сумочку, и платок. Сто пятьдесят марок он отложил из денег на хозяйство, и ему удалось наскрести их так, что этого почти не почувствовали: он экономил на картофеле, на маргарине, на кофе, на исчезнувшем из рациона мясе.
Ей стало легче, когда она подумала о мальчике: уж он-то что-нибудь сообразит. Но тысяча двести марок – это испугает даже его. «Тебе надо было раньше следить за своими зубами, – скажет Лео, – каждый день съедать лимон и чистить как полагается, вот так», – тут он продемонстрирует ей, как надо чистить зубы. «Мое здоровье – это все, что у меня есть, поэтому я не могу не заботиться о нем». Но макаронной фабрики Бамбергера больше нет и в помине, прошло двенадцать лет: Бамбергера умертвили в душегубке, его превратили в сморщенную, обгорелую мумию, мумию без собственной фабрики, без счета в банке. Темно-синие коробки, ярко-желтые макароны, огненно-красные открытки. Как звали того осанистого и очень симпатичного бородача с красновато-коричневым лицом, похожим на леденец? Дитрих фон Берн. Насчет Вильмы, которая с десяти часов сидит у фрау Борусяк, беспокоиться нечего.
Об Эрихе она вспоминала редко: слишком уж много прошло времени – целых восемь лет. Среди ночи вдруг приступ – искаженное страхом лицо, пальцы, судорожно сжимающие ее руку, налитые кровью глаза, форма штурмовика в шкафу, робкая ласка и робкий ответ на нее, и в награду за ласку какао, шоколад и страх, когда он вдруг ночью пришел в ее комнату; брюки небрежно натянуты поверх ночной рубашки, босиком, чтобы его мать не услыхала, полубезумный взгляд – она поняла, что сейчас произойдет то, чего она не хочет. Только год прошел после смерти Генриха. Она не хотела этого, но ничего не сказала, и Эрих, который, вероятно, ушел бы, скажи она хоть слово, не ушел: он был удивлен ее покорностью, а ее не оставляло гнетущее чувство, что все это неотвратимо. Эрих же воспринял случившееся как любовь, которую – без всяких на то оснований – ждал от нее. Он погасил свет. Свистящее дыхание, в темноте, на фоне блеклой синевы ночного неба она видела его беспомощную и нескладную фигуру, когда он, остановившись перед кроватью, снимал брюки. Еще не поздно было сказать: «Уходи!» – и он ушел бы – ведь это был Эрих, а не Лео. Но она ничего не сказала, ее сковывало чувство, что так все и должно свершиться, почему же тогда не с Эрихом, который к ней хорошо относится?
Эрих был так же добр, как и кондитер, и в ту светлую ночь Эрих сказал ей: «Какая ты красивая!» – а сам с таким трудом дышал.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу