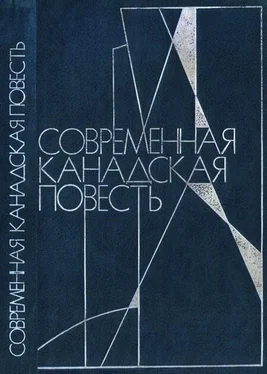Дни стирки были для матери днями горького унижения, которое она пыталась скрасить мечтами.
— Почему бы нам не переехать, Джо? В нашем квартале детям не жизнь. Почему бы нам не переселиться в Сен-Тома-де-Руа? Это приличное место, там и зелень, и говор чище, чем здесь…
— Нам и тут хорошо. Куда уж лучше.
Разочарованно улыбаясь (отец редко замечал всю прелесть этой улыбки), мать упрекала его за избыток простодушия и неумение бороться за свое счастье. Она не знала, как втолковать ему, что она желает для нас того, к чему когда-то стремилась сама, — иного, более достойного существования. Мысль о том, что мне, как и ей, придется, возможно, бросить школу, не достигнув пятнадцати лет, еще больше углубляла пропасть между ней и другими, более «достойными» людьми.
— Мы не бедствуем, живем не так уж плохо, а вспомни-ка, что творилось в моей семье, когда я был мальчишкой. Нас было семнадцать душ — и всем пришлось работать. А ведь мой отец вовсе не был слюнтяем, он был настоящим мужчиной. Ладно, обещаю тебе: настанет пора, и мы съедем отсюда… будет у нас свой дом…
Днем отец трудился на заводе, вечером учился, по ночам подрабатывал на строительстве дорог — и при этом еще удивлялся, что, «не дожив до сорока, похож на выжатый лимон»; он худел, лысел и, однако, постоянно сравнивал теперешнее наше благополучие с былой неустроенностью, с нищетой, царившей на ферме его отца.
— Справедливый был человек, ничего не скажешь: если на Рождество у него было всего четыре апельсина на всех детей, он делил их на семнадцать частей, и, представьте себе, всем хватало…
Единственным удовольствием, которое мог доставить мне отец, были наши воскресные прогулки на мотоцикле; он усаживал меня в коляску и, гордо махнув рукой соседям, мчался вперед под грозовым небом, на которое я хмуро поглядывала из-под его локтя. Сидя в мотоциклетной коляске, я думала не об отце, а о Луизетте Дени. Наша дружба достигла той стадии, когда начинаешь ждать какой-то счастливой случайности, способной преобразить обеих, заставить взглянуть друг на дружку иными глазами. После монастырского заточения мы вели себя в школе паиньками, едва узнавая самих себя, так что матушка Феофила почти страдала от нашего примерного поведения и полнейшего равнодушия к отметкам, которое на самом деле было всего лишь чем-то вроде странного оцепенения, какого-то временного затишья. Изнывая от того, что нас теперь не за что наказывать, она жаловалась директрисе:
— Мне всегда казалось, добрая моя матушка, что у этих двух девчонок слишком много ума и совсем нет сердца…
Во время уроков мы с Луизеттой подолгу глядели друг дружке в глаза и грустно вздыхали: что-то нас ждет впереди? Это немое вопрошание стало для нас блаженством. Мы часами смотрелись одна в другую, как вода смотрится в небо: тихо и бесстрастно, и лишь изредка чуть заметная тревожная рябь пробегает по поверхности этой глади.
Совершенно преобразило нас появление Жермены Леонар. Впервые порог нашей школы, где гнездились разные болезни, переступил врач; впервые раздался твердый голос, потребовавший: «Нужны решительные перемены, матушка настоятельница, коренные перемены, иначе вы потеряете еще немало своих воспитанниц…»
— Коль скоро ваше милосердие вдохновлено верою, — отвечала матушка настоятельница, — мы будем вам признательны за ваши труды. Вот только платить вам, по правде говоря, нечем: мы трудимся здесь лишь ради вящей славы господней…
Жермена Леонар прервала ее, потребовав, чтобы ей тут же открыли двери лечебницы, и недовольным тоном добавила:
— Этим закутком теперь буду ведать я.
Не видя конца нашим хворям, мы всем скопом ринулись к ней на прием — демонстрировать гнилые зубы и воспаленные глотки; раскаты кашля возносились как призывы о помощи, и в этой лихорадочной сутолоке, среди учениц, которые что есть силы толкались, желая обратить на себя внимание врача, мадемуазель Леонар, захватанная множеством рук, задыхающаяся от смрада множества ртов, казалось, изнемогала под бременем жертвенного вдохновения, приведшего ее к нам.
— Оставьте меня в покое, — протестовала она, — или хотя бы станьте в очередь, не могу же я осматривать всех вас разом.
Поток школьниц мало-помалу вернулся в свое обычное русло. Мы разбрелись по полутемным классам: за окнами сгущалась снежная темень, хотя было всего три часа пополудни. Мадемуазель Леонар продолжала работать у себя в кабинете, покусывая кончик карандаша, шелестя страницами папок, а мы с Луизеттой, забившись в уголок, исподтишка следили за ней. Нам казалось, что ее могучий мозг должен гудеть словно пчелиный рой, ведь Жермена Леонар не только решилась предложить свои услуги школе, она, кроме того, работала еще в больнице и писала диссертацию об атеизме, из-за которой, кстати сказать, ее потом и выставили из нашего заведения. Некрасивая жесткая гримаска порой кривила губы нашей новой знакомой, линии ее рта говорили о почти животной чувственности, но в глазах светился неизменный огонек сострадания и пытливого ума; сострадание это и было как бы связующим звеном между двумя столь несовместимыми выражениями, господствовавшими на ее лице. Мы тянулись к ней своекорыстно, надеясь надолго укрыться под сенью ее величия; каждая из нас рассчитывала с ее помощью добиться того счастья и той свободы, которые пока еще были для нас недосягаемы. Нас волновали духовные радости, но мысль о том, что помимо них существуют и другие утехи, менее чистые, но столь же прекрасные, и что для мадемуазель Леонар были доступны и те и другие (несмотря на присущую ей суховатую сдержанность, она не могла скрыть своего пристрастия к мужскому полу), эта мысль побуждала нас еще глубже проникнуть и в ее душу, и в ее жизнь, так много значившую для нас…
Читать дальше