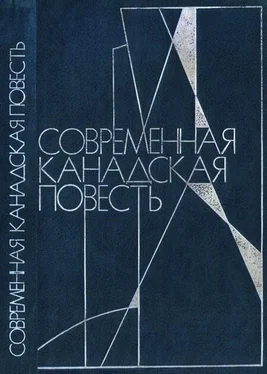— Не знаю. Я… я не в курсе.
— Он не в курсе! Ах ты, негодяй!
Взгляд Кури делается жестким, но природная боязливость берет верх.
— Как же прикажешь понимать в таком случае твое дурацкое предупреждение три дня назад?
— Я только хотел сказать, что люди начали судачить. Ее слишком часто видят у меня одну.
Отличный, полноценный гнев возвращает меня к жизни.
— Не строй из себя идиота, Кури. Я хочу знать. Я хочу знать все! Говори, иначе…
Я сжимаю кулаки. Он видит, что я пьян и сейчас от меня можно ожидать чего угодно.
— Они встречаются около двух недель.
— У тебя?
— Ну меня, и в других местах.
— Где?
— Не знаю. На улице… и, вероятно, у него.
— Он живет один?
— С матерью. Но ее часто не бывает дома.
— Ты думаешь, они…
Кури смотрит на меня с состраданием. Он понимает, что, пытаясь вытянуть из него новые подробности, я только растравляю свою рану. Но остановиться я уже не могу.
— Ты думаешь, она изменяет мне с ним?
— Откуда я могу это знать?
— Ты видел их вместе. Как они себя ведут?
Кури молчит, избегая моего взгляда.
— Они обнимаются?
— Нет. Для чего вы все это спрашиваете?
— Они обнимаются?
— Не могут же они обниматься в ресторане!
— Он брал ее за руки?
— Лучше бы вы не…
— Что она и нем нашла? Он, конечно, красавчик, может, дело в этом?
— Не знаю. Я ничего не знаю. Я вам все уже сказал.
Кури выпрямляется и сочувственно смотрит мне в глаза, слегка стыдясь собственной мягкости.
— Вы ведете себя как ребенок. Не вздумайте и ему задавать те же вопросы. Вообще не говорите об этом ни с кем. Не расспрашивайте. Над вами же будут смеяться.
Его певучий голос обволакивает меня, как компресс, остужая мою горячку.
— Скажи на милость, Кури, что значит вести себя как мужчина?
Некоторое время он раздумывает, но так и не произносит ни слова. В сущности, Кури — фаталист. Анализировать различные варианты не в его духе. Да мне и неважно, что он мог бы ответить. Мой хилый гнев мгновенно растаял от звука его голоса. Сейчас я чувствую лишь тяжесть во всем теле и желание спать. Я молча поднимаюсь и, пошатываясь, выхожу из отеля.
Кури идет за мной, стараясь не быть навязчивым, но и не выпуская меня из поля зрения: добрая душа, он хочет мне помочь, но по возможности незаметно. Мороз не отрезвляет меня.
Я вижу в зеркале заднего вида фары машины Кури, и от их движения у меня кружится голова. Она кружится и от разматывающейся впереди дороги, но руль меня слушается. Кури, мой ночной брат, ты можешь быть спокоен! Друг за другом, как налетчики, мы тихо подкатываем к ресторану. Тень сирийца маячит возле его автомобиля, пока я не вхожу в дом. У меня еще хватает сил преодолеть последнее препятствие — лестницу. Веки мои налиты горячим свинцом. Я швыряю пальто посреди гостиной и бросаюсь на розовый диван. Ничего не осталось от прожитого дня, кроме привкуса желчи во рту и смутного ощущения, что я несчастен. Вероятно, меня спасает виски — яд значительно менее разрушительный, чем бурные объяснения и душевные муки.
* * *
Я ощущаю где-то в зубах настойчивое дребезжание, мучительный, буравящий звук бормашины. Стискиваю челюсти, чтобы это прекратилось, но звук делается сильней и перемещается в глубь головы. Он сверлит мне череп, и кажется, будто кости раздвигаются: кто-то вставляет между ними зажимы, чтобы они не могли сомкнуться, и звук со свистом врывается в щели. Каждый пузырек воздуха с шумом лопается, отзываясь мучительной болью. Эта пытка наполовину пробуждает меня, но я изо всех сил цепляюсь за забытье, чтобы страдать не так остро. Звук становится еще громче, и я просыпаюсь окончательно. Я поднимаю голову и тут же роняю ее обратно. Черепные кости сдвинулись с места и посыпались друг на друга. Телефон звонит не переставая в десяти шагах от дивана, на котором я лежу: я так и уснул одетым. Никто не снимет трубку вместо меня. Я сажусь и жду, чтобы буря в мозгу утихла, но на смену ей приходят тяжелые удары молота, сопровождающие пульсацию крови. Стараясь не шевелить головой, я наконец добираюсь до аппарата. Мой голос, постаревший на десять лет, расходится в тишине кругами, но я знаю, что он еле слышен и волны его затухают во тьме у дверей пашей спальни. Вывеска Кури уже не горит, и только от снега исходит слабое свечение: оно разливается молочной лужей по подоконнику, но в комнату не проникает. На другом конце провода голос, в отличие от моего, поразительно живой, весь влажный от волнения, он гибок и способен играть на полутонах, переходя от страха к мольбе и от мольбы к сдержанности. То он пылкий, настойчивый и дрожащий, то ровный и бесстрастный. Из темной воды памяти я пытаюсь выловить вопросы, которые полагается задавать в таких случаях. С трудом выуживаю первые попавшиеся.
Читать дальше