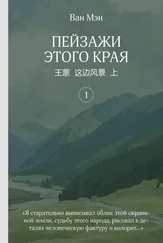Говорили шепотом: условный рефлекс — понижать голос, когда обсуждаешь начальство, даже если и нет рядом никаких «стукачей».
После таких рассказов я всю ночь проворочался с боку на бок, так и не заснув. Что же это с ней? С ними обоими? Все им так сочувствовали, ведь столько горя хлебнули. Или она посчитала себя вправе «компенсировать» то, чего лишила ее «четверка»? Но не таким же манером «компенсировать»! Нет-нет, не дано им прав на это, народ же смотрит на них с надеждой… А вдруг они оторвались от масс… О небо!
Сейчас же надо ехать в С., броситься к старине Тану и его супруге, лично, с глазу на глаз, пересказать им все, чего я тут наслушался, — с ними, «обюрократившимися», не многие решатся на откровенность. Насилу дождавшись завершения официальной части, я испросил разрешения съездить в С., пожертвовав экскурсиями, фотографированием, театром и банкетом последних двух дней.
Через четыре часа ночной поезд доставил меня в С. В столовой я встретил коллегу, с которым когда-то вместе учились парикмахерскому делу, но потом много лет не виделись. Он удивился, узнав, к кому я приехал:
— К секретарю Тану? С жалобой, что ли? Ты же этим никогда не занимался.
— Да нет, мы знакомы, он приглашал меня к себе домой.
— Домой?! — сделал большие глаза коллега, поморгал и вдруг сообразил: — Вот уж чего не мог себе представить! Простачок научился связи поддерживать, да с какими людьми! Вот так так! — Он одобрительно поднял большой палец и шепнул мне на ухо: — Завтра в С. открывается рабочее совещание, созывает его провком, потому обслуживание на высоте — лучшие повара, артисты, товары. Крупные закусочные в городе закрыли, все брошено на совещание. Так что, мастер, постарайся проникнуть в гостиницу для благородных, отоваришься и друга не забудь… Монет взял достаточно? А то я тут живу в ….
Коллега только подлил масла в огонь, и, презрев покой и достоинство, я в ажиотаже ринулся в горком, откуда меня направили в Первый Дом для приезжих, в просторечии «гостиница для благородных», где сейчас находился секретарь Тан. Опрометью я кинулся туда. Метров за двести уже был виден патруль, усиленный регулировщиками. А в пятидесяти — начался допрос!
— Куда идешь? — остановили меня милиционер и солдат. (Даже «товарищ» произнести не потрудились.)
За десять метров от ворот потребовали документы, хорошо, было при себе удостоверение участника «совещания учебы у Дацина и Дачжая», лишь с его помощью я и добрался до ворот.
Постовой у входа отослал в бюро пропусков, но там все было наглухо заперто, окна плотно зашторены, ничто не шелохнется, никто не покажется. Как быть? В боковой стене обнаружил я квадратное отверстие, куда, видно, и следовало сообщать социальное положение и цель посещения, а потом ждать, пока проверят да резолюцию наложат.
Крохотулечное, да еще на треть уменьшенное деревянным прилавочком отверстие пробили высоковато, словно для двухметровых баскетболистов-центровых. Пришлось приподняться на цыпочки, вытянуть шею и воззвать:
— Товарищ!
Аж шея заныла, так тянулся, но увидел лишь могучую, мясистую спину оплывшего толстяка — сотрудника бюро пропусков, привалившегося к окошку.
— Товарищ! Товарищ! Товарищ!
Лишь после четвертого возгласа толстомясый повернул голову, взглянул на меня и снова отвернулся.
— Товарищ! — заорал я.
— Больше сказать нечего? — вылетело из окошка пулей, нацеленной прямо в лоб или в сердце.
Что значит «сказать нечего»? Разве я немой? Или не китаец? По лицу пошли красные пятна.
— Мне нужен старина Тан! Тан Цзююань!
От моего вопля вздрогнул постовой, и от ворот донеслось:
— Не ори!
Само имя и то, как запросто я произнес его, возымели действие, дежурный повернулся, приник к окошечку и окинул меня с головы до ног взглядом, от которого бросило в дрожь. О небо, ненавидящий, дышащий кровной враждой взгляд вынести легче, чем интерес этого «товарища». Потом он приступил к допросу, а когда выяснил все, что ему было нужно, ледяным тоном выдавил:
— Во время совещания никаких посетителей.
— Совещание откроется только завтра, я же знаю, я был в горкоме, они сказали, что сейчас можно.
— Никаких посетителей, — бесцветно повторил он и вновь показал мне свою крепкую спину.
Вот тут у внутренних дверей и раздался требовательный женский голос. В тот же миг дежурного как подменили, мышцы и кожа, поза и мина, штрихи и линии — все поразительно преобразилось, словно деревянную чурку спрыснули волшебным тополиным настоем бодхисатвы Гуаньинь или любовь царевича обратила жабу в Василису Прекрасную. Дежурный вскочил и ринулся отпирать замок, распахивать дверь — сладостно и нежно, деликатно и церемонно, расторопно и ловко, радостно и сердечно.
Читать дальше
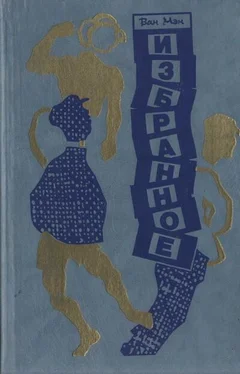



![Альфред Элтон Ван Вогт - Избранные произведения. Том I [Компиляция]](/books/389749/alfred-elton-van-vogt-izbrannye-proizvedeniya-tom-thumb.webp)