Ортега был поражен.
— Значит, не исключено, что Хулио Морено был убит самим Габриэлем Элиодоро?
Грис пожал плечами.
— Здесь я ничего не могу утверждать. Думаю, что из правительственного дворца его увезли в какую-нибудь загородную тюрьму и только потом тайно убили. Показательно, что ни одному журналисту, ни одному иностранному корреспонденту не было разрешено увидеть его труп. Сакраментские газеты ограничились лишь кратким сообщением о самоубийстве Морено. Ни одного снимка не было опубликовано. И до сегодняшнего дня никто не знает, где его похоронили. — Помолчав, Грис повторил: — Я убежден, что доктор Хулио Морено не кончал жизнь самоубийством. — Но, заметив, что Пабло слишком взволнован, переменил тему: — Какие у тебя известия от дона Дионисио?
— Два дня назад я получил письмо от родителей… но так и не распечатал. Мне все еще не разрешают возвратиться в Сакраменто.
— Подумать только, в какую историю я тебя впутал, — Грис ласково коснулся руки Пабло. — Иногда я вспоминаю наше бегство в ту ночь… и не знаю, как тебя отблагодарить за то, что ты для меня сделал.
— Не говорите об этом, профессор. Помощь, которую я вам тогда оказал, была самым полезным и достойным делом за всю мою жизнь.
— И поверь, друг мой, что совершил его ты не напрасно, — прошептал Грис, незаметно поглядывая по сторонам. — Мы знаем, Каррера не допустит, чтобы выборы в этом году проводились в соответствии с конституцией. Не будет даже подобранного им самим марионеточного кандидата. Победа Фиделя Кастро на Кубе оказала огромную поддержку нашему делу. Смею тебя заверить, близится революция…
— Прошу вас, — прервал его Пабло, — ничего мне не рассказывайте.
Грис улыбнулся.
— Я тебе полностью доверяю.
— Но я не хочу ничего знать: ни фактов, ни имен. Это только усилит мое смятение…
— Я и сам знаю далеко не все. Однако твоя просьба мне понятна. Что ж, поговорим о другом. Ты сейчас пишешь? Рисуешь?
Ортега с унылым видом покачал головой.
— Ничего я не делаю. Чувствую себя совершенно опустошенным. Живу в постоянной тревоге, никому не доверяю. Глотаю аспирин и успокоительные средства, будто это может помочь мне. А в остальном я по-прежнему подчиняюсь контролю, который на расстоянии осуществляет исключительно ловкий оператор, донья Исабель Ортега-и-Мурат. Она пользуется аппаратом, старым, как мир, но очень действенным: человеческим сердцем, в данном случае сердцем моего отца.
— Значит, ты уподобился спутнику крупной планеты, — сказал Грис.
— И самое отвратительное, профессор, что вращаюсь я вокруг мерзкого солнца. Разве не позор?
Леонардо Грис коснулся пальцем своей груди там, где помещается сердце.
— Кстати, как твои сердечные дела?
— Ничего серьезного. Одна полупроститутка сегодня, другая завтра… У меня все определяется категорией «полу». Я полупоэт, полухудожник. Сплю с полупроститутками, отчего получаю полуудовольствие. И что еще хуже — я лишь полустыжусь всего этого…
— Вот он — моя тень! Субъект в светлом дождевике…
Пабло обернулся и глазами нашел человека, о котором говорил Грис.
— Блондин со шляпой в руке?
— Он. Обрати внимание, как пристально он нас разглядывает.
Пабло поднялся, чтобы подойти к неизвестному и спросить, что ему надо, но Грис, решительно дернув его за полу пиджака, заставил сесть. Человек в светлом плаще резко повернулся и вышел на улицу.
— Спокойно, Пабло. Я уверен, что они хотят лишь припугнуть меня, и не собираюсь притворяться, будто не понимаю этого. Утром мне звонили по поводу моего письма директору «Пост», которое опубликовано сегодня. Ты его читал? Отлично. Мне сказали по-английски, без малейшего акцента: «Если ты дорожишь своей шкурой, братишка, не пиши больше писем в газеты». Но поговорим лучше о другом. Бываешь на концертах?
— Как всегда. Только музыка помогает мне сохранить в душе что-то человеческое. Однако квартеты Бартока слишком напоминают о раздробленности мира и поразительно точно воспроизводят лабиринт, в котором мы заблудились, поэтому у меня не хватает больше духа их слушать. Мне и так тяжело. Я предпочитаю итальянские примитивы — они мне говорят о мире, где живут ангелы, возможно, вымышленном, но прекрасном. И разумеется, всегда остается Иоганн Себастьян, утверждающий, что жизнь и мир просты, а любовь возможна. И, кстати, уж если мы заговорили о музыке, как поживает ваша виолончель, профессор?
— Плохо. Плесневеет в пыльном углу. Я неделями не подхожу к ней.
Читать дальше
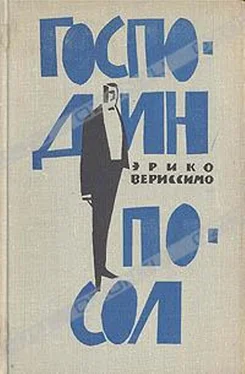


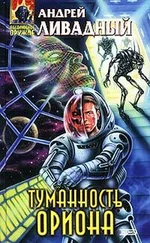
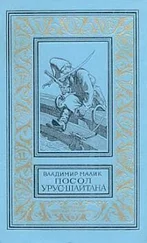
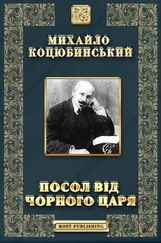


![Анатолий Подшивалов - Господин изобретатель [≈ Господин Изобретатель. Часть I (СИ) + 1-я глава книги Господин Изобретатель. Часть II (СИ)] [litres]](/books/388405/anatolij-podshivalov-gospodin-izobretatel-gospodin-izobretatel-chast-i-si-1-ya-glava-knigi-gospodin-izobretatel-chast-ii-si-litres-thumb.webp)
![Г Маг - Посол Конкордии [СИ]](/books/427878/g-mag-posol-konkordii-si-thumb.webp)
