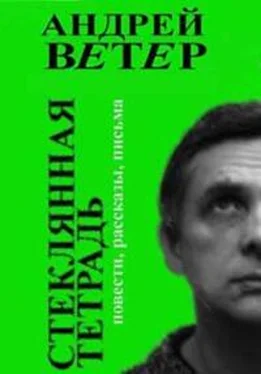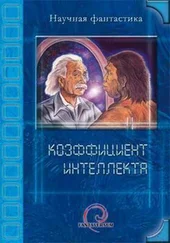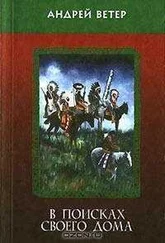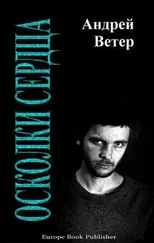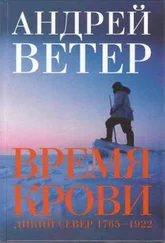Иногда слышался чей–то удручённый вздох, похожий на рассыпавшееся пыльное привидение, да поскрипывала парта под чьей–то маленькой попкой.
Желание справить нужду было для меня всегда мучением, почти пыткой. Даже в зрелом возрасте оно едва не лишало меня сил и чувств и зачастую ставило меня в самые невыгодные положения. Я покрывался крупными каплями пота, шея между ушами деревенела, а пах разрастался мешком жгучего битого льда.
А тут я ещё совсем ребёнок, беззащитная фигурка в коротеньких штанишках и беленькой рубашке, выгоревшие под горячим азиатским солнцем брови изогнулись над виновато–испуганными голубыми глазками. Ужасно стыдно позвать сухенькую женщину с толстыми стёклами на глазах и громко попроситься в туалет. Нужно, чтобы она сама обратила на меня внимание, и я молча (как полагается в классе) тяну трясущуюся в нетерпении ручку, нет — ручонку, цыплячье крылышко, не покрывшееся пока что пёрышками. Но молчаливая просьба не всегда и не для всех бывает слышимой. Я жду. Искривляется от горячей слезы стена и спина спереди сидящего школьника…
О, где ты, великая сила внимания и чуткости? На каком кладбище душ человеческих покоится твоя тень?
Жарко лопнуло и расползлось моё тело, превращаясь в трубу, из которой на свет божий хлынули (вместе с естественной нужной) позор и отчаяние. В нависшей внезапно устрашающей тишине оглушительно раздались всплески капель, потекла по каменному полу янтарного цвета лужица, меняясь в форме и вытягиваясь в сторону окна. Распиравшая тело тяжесть прорвалась наружу и оставила внутри меня изнуряющую пустоту, прилипшую к стенкам моих пульсирующих органов. Накатились слабость и стыд…
Стыд. Как пересказать это состояние размазанного по сковородке мозга? Есть ли среди неповоротливых букв алфавита такие, из которых можно было бы сложить ощущение пространства, где ни повернуться нельзя, ни съёжиться, ни спрятать под крыло полные тяжёлых слёз глаза? Стыд… Стеклянная колба, а в ней — ты со скрюченными ручками–ножками, и глаза беспощадно смеющихся одноклассников сдвигаются вокруг, как бесчисленные ветви и листья на кронах обступающего тебя дремучего леса. Стыд буравит спину тонкими, остро заточенными спицами, когда шагаешь через двор, а позади слышится чьё–то колкое шушуканье, невнятное, но по–змеиному шипящее. И дверь, дребезжащая стеклом и расхристанным язычком замка, это тоже стыд, потому что за дверью, куда надо шагнуть — пропасть, оскалы маленьких детских зубов, распахнувшаяся пасть целого класса, однако дверь надо открыть (чугунную, несдвигаемую), открыть тоненькой ручонкой с голубенькой бьющейся прожилкой…
Я прошёл сквозь стыд, как наказуемый солдат под кроваво бьющими шомполами. Никому не нужный, но всеми замечаемый.
Самый маленький в классе, последний в школьном строю, белобрысый, с редкими зубами, обгрызающий ногти на испачканных чернилами пальцах. Таким я был.
Но я был ещё и нежным, жаждавшим ласки, мечтавший о сказках и любивший девочек. Любил, правда, скрытно, тайно, издалека, краем глаза, ибо не мог растоптанный общим презрением человек открыто выказывать рыцарские чувства перед будущими феями и проститутками. Я был ничтожен и крайне мал, а они, девочки…
Девочки, эти прозрачные ласковые существа в шуршащих бантах и юбочках, всегда воркующие по–матерински возле кукол и пушистых котят, они будили во мне волны невидимого сказочного водоема, где перетекают по гладким прибрежным камням уютные тени деревьев и от разлившейся тишины замирает восторженно сердце. Этому миру, а не пыльно–солнечному классу и прилежно заученным урокам принадлежали девочки, сами того не зная. Их голоса и улыбки убаюкивали, ласкали. Что–то неясное, расплывчато–акварельное излучалось девочками, из–за чего их нескладные ещё ручки и ножки, похожие на конечности зелёных кузнечиков, да тоненькие шейки, на которые посажены большие головки с ровно остриженными чёлками, приобретали вид необыкновенный. Хотелось дотронуться до их пальчиков, но было стыдно (или страшно?) даже когда требовалось водить хоровод вокруг пахучей ёлки, усыпанной серебром новогодних игрушек.
Среди них, девочек, появилась самая очаровательная, бесспорно вышедшая из той сказки моей души, где колыхались колдовские волны тихого лесного озера. Её звали Суок. Её невозможно было потрогать, как бы того ни желалось, как бы ни распирало мою костлявую грудь непонятным волнением. Я мог притронуться к белому киноэкрану, но мои пальцы в цыпках касались лишь волшебного паруса, который приносил в зрительный зал трёх толстяков, Тибула и куклу наследника Тутти по имени Суок. Её сладкая улыбка гипнотизировала меня, завораживала, когда она пела песню и жонглировала ночью кеглями возле цирковой кибитки. Но кому я мог признаться в чувстве, похожем на вкус облизанного только что леденечного петушка на палочке, и как объяснить вкус того чувства в сердце моём, когда весь окружающий мир был совершенно непонятен и непостижим, когда я ничего не умел.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу