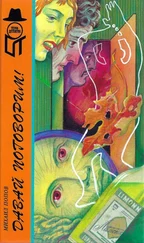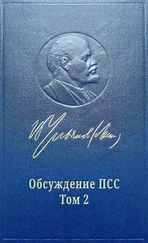На втором этаже было темно. Серый свет дождливого дня не имел сил просочиться сквозь двойные и тщательней–ше задернутые гардины. В этой ни для чего не нужной тщательности сказывался какой–то здешний комплекс. Свойственный не только людям, но и самому дому. Непроницаемость как добродетель.
На втором этаже было тихо. Некому было здесь появиться и незачем.
Тем не менее Настя была настороже и старалась ступать как можно бесшумнее. Прекрасно зная расположение комнат и внутреннее их устройство, она каждый раз, нажимая на ручку двери, ощущала себя первооткрыва–тельницей.
Перед тем как войти в «розовую гостиную», она взяла паузу. Откуда бы взяться этой рыбьей робости? Что там может быть особенного?!
Самое страшное — фарфоровый немец с бочонком. Немец, которого нет. Без всякого желания с ее стороны воображение нарисовало ей настоящего, в полный жирный рост, бюргера. С трехведерной бочкой в обнимку он сидит на каминной полке, свесив толстые ноги почти до пола, и мурлычет мелодийку. Чушь какая–то!
Чтобы доказать себе это, Настя решительно толкнула дверь, и сначала ей показалось, что она права. На каминной полке никого (и ничего) не было. Но рядом кто–то стоял. Не мужчина. Фигура в длинном, до паркета, платье.
— Черт его знает, этого Фрола. Это какое–то исключение. Бывает он здесь, не бывает, — важно то, что через четыре года благополучно зарежет нашего славного дядю Фаню.
Настя спокойно теребила поясок своего некрасивого платья.
— И вы верите в это, да?
Профессорша прошла мимо нее к окну, шурша подолом черного платья до полу и звякая фарфоровыми черепами. Отодвинула край гардины и посмотрела на дождь так, словно он шел прямо в будущее.
— Я не могу в это верить, я это знаю, девочка. В конце восемнадцатого года я получу письмо от одного из ваших соседей, где вся эта кровавая история будет подробнейшим образом описана. Забавно, но ты будешь в это время находиться здесь.
— Меня тоже зарежут?
Зоя Вечеславовна отпустила край ткани и повернулась к собеседнице.
— Нет. И ты это прекрасно знаешь. Тебя озверевшие мужики пощадят. За доброту твою, за отзывчивость. А вот Афанасия Ивановича нет. За те годы, что наш милейший либерал дядя Фаня будет владеть Столешиным, он успеет превратиться в редкостную скотину, злобную и несправедливую
— С трудом верится. Может быть, его убьют по ошибке?
— Нет, дорогая, никакой ошибки не будет. Афанасий Иванович полностью заслужит то, что с ним произойдет. Легко быть добрым, прекраснодушным и либеральным, когда отвечает за все кто–то другой. Например, Тихон Петрович. Когда же сталкиваешься нос к носу с нашим замечательным, самобытным народом–богоносцем, — звереешь! Афанасию Ивановичу, человеку отчасти европейскому, а значит, верящему в рациональное мироустройство, сделается уже через несколько месяцев невыносима мужицкая уклончивость, своеобразная хитрова–тость, загадочное косноязычие деревенской души, эта добродушно–звериная повадочка. Он затеет усовершенствования, ибо совесть ему не позволит просто безвозмездно пользоваться плодами чужих рук. Как всякий просветитель, он пойдет с факелом рационализма в угрюмые сиволапые народные толщи. Первые добрые порывы потерпят позорный крах. И тогда он решит, что добро должно вооружиться дисциплиной, что справедливость проистекает от регулярности и т. д. Мужики будут уклоняться от своей пользы, он их — пороть. Они будут больше уклоняться, он их — больше пороть. Короче говоря, возненавидят его пейзане наши столешинские, и даже не столько за лютость, беспримерную в наших великодушных местах, а за свою неспособность постичь, ради чего эта лютость к ним применяется. Если за дело, то секи, у нас так. Баловство не сладко без наказания, предполагающегося в конце его. А вот непонятное — непонятно и отвращает. Так что зарежут его, зарежут, как только возможность представится.
— А чего же он тогда не уедет, чувствуя свое шаткое положение и вдобавок имея такие на свой счет предсказания?
— Да не успеет. Он же знает, что предсказание касается лета восемнадцатого года, а мужики примут свои меры еще в январе. Не велят уезжать, возьмут под арест, так сказать. Власти кругом никакой. Вступиться некому, соседи–помещики сами дрожат от страха. Так и будет полгода ждать смерти под домашним арестом.
— Жуткая картина. Может, ему сейчас об этом сказать? Пусть откажется от имения и уезжает.
— Скажи, милая, скажи. Пусть откажется. А что, завещание уже вскрыто?
Читать дальше