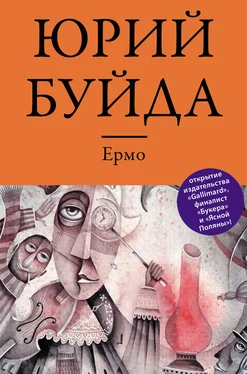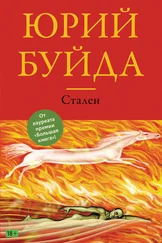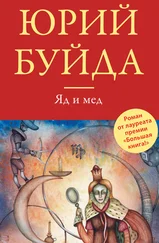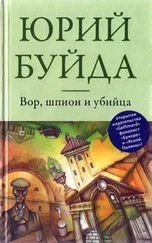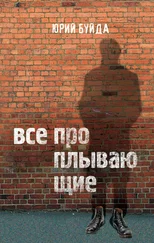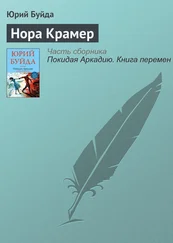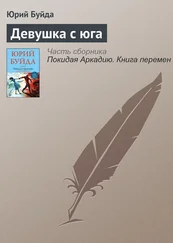У Даниила не объясняется, зачем-таки поставил Навуходоносор золотого тельца-истукана, да это, впрочем, и неважно: телец для иудеев – символ тупой власти, требующей от них отпадения от Бога, то есть отказа от идентичности, жертвы, которой почти две тысячи лет требовали от иудеев европейские христиане.
Рауль Хилберг в «Уничтожении европейских евреев» так описал стадии этого процесса: «Христианские миссионеры говорили, в сущности, следующее: вы не имеете права жить среди нас как евреи. Пришедшие им на смену светские правители провозгласили: вы не имеете права жить среди нас. Наконец, немецкие нацисты постановили: вы не имеете права жить…»
Преступному племени – sceleratissima gens – вменялось в вину даже еврейское происхождение Христа и христианства, навязанного иудеями нееврейскому миру: как говорил Сенека именно по этому поводу, victi vicloribus leges dederunt – побежденные дали закон победителям.
После Катастрофы, после Второй мировой войны христиане уже не могли жить в прежнем мире. Влиятельный немецкий католический теолог Иоганн Баптист Метц с ужасом, с горечью воскликнул: «…мы, христиане, узнаем ту самую судьбу, которую Иисус заповедал своим последователям, не в реальной истории христианства, а в страдальческой летописи еврейского народа!»
Все это важно для исследователя, обращающегося к пьесе Ермо «Пещное действо», написанной, как уже говорилось выше, в соавторстве с Дэвидом Ван Бруксом, голландским евреем, чудом выжившим в аду Освенцима.
Джордж Ермо-Николаев не был «филосемитом», как утверждает Стефан Данн, в устах которого этот термин звучит двусмысленно. Однажды Ермо даже навлек гнев адептов нарождавшейся political correctness, заявив, что ребенок, погибший в Ленинграде или Ковентри, имеет такое же право на сострадание, что и ребенок, погибший в печах Освенцима.
«Еврейская тема важна для меня не сама по себе, – сказал он в интервью Ванессе Аллен. – Кто-то назвал антисемитизм универсальной школой зла. Только это меня и интересует».
…Узники нацистского лагеря смерти ставят на сцене самодеятельного театра действо о царе Навуходоносоре, золотом истукане и трех «отроках» (мужах). В спектакле заняты не только евреи, но и русские, французы, поляки и даже немцы – из «обслуживающего персонала», то есть охранники и врачи. Ветхозаветный сюжет для них – жгучая реальность: за окнами импровизированного театрика дымят трубы крематория, и кое-кто из друзей и родных актеров «канул в Божье небо, как в омут ада».
Участники спектакля захвачены этой страшной двойственностью, искусством, «в котором реальности больше, чем реализма». Они радуются удачным режиссерским находкам, ссорятся, ревнуют, интригуют из-за лишней пайки хлеба, вспоминают детство, вспоминают довоенную жизнь, в которой, как становится постепенно все яснее, «Бога было так мало, что ему вполне хватало места в церковке на краю села». Актеры и зрители переживают одну, общую историю, разделенные лишь дверцей крематория, о которой никому не дано забыть.
Театр – весь лагерь.
В «печь огненную» отважно вступают трое – два еврея и молодой немец-охранник, и зрителю уже невдомек – судя по всему, этот эффект входил в расчет драматургов и режиссера, – где настоящее пламя настоящего крематория, а где – картонное пламя театрального действа. Вопреки замыслу лагерного драматурга Элеазара в огне сгорает Бог, допустивший погибель невинных людей. Во сне ли, наяву ли – из огненной печи невредимыми появляются «отроки» – искореженные, испытавшие Бога и вынужденные жить в мире без Него.
Бурю возмущения у критиков вызвала «неубедительная психологическая трансформация Петера» – охранника, разделившего судьбу евреев: его по ошибке заталкивают в лагерный крематорий.
Однако пьеса была демонстративно непсихологической – создатели ориентировались на стилистику средневекового миракля. Бог, Дьявол, Добродетель, Невинность, Вера – выведенные на сцену наряду с людьми, эти воплощенные абстракции, соотносимые с мистериальной поэтикой, подчеркивали условность сценического повествования. Внутренние монологи действующих лиц написаны в стихах, которые по требованию постановщика, все того же Жана Антонена, были обращены к залу и читались по всем правилам искусства декламации. В эпилоге звучал принадлежавший перу Ван Брукса стилизованный «Сонет для трех голосов», якобы подводивший итог действия и до зубной боли зацитированный впоследствии критиками и профессиональными декламаторами.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу