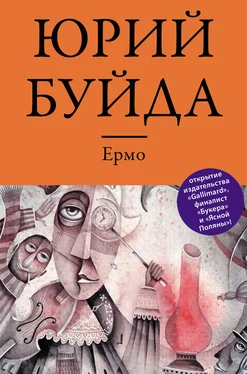Он молча уполз в свою нору, в убежище, где его не достали ни немцы, ни разъяренные соотечественники, ни американцы, – спрятался от жизни.
У него в комнате были аккуратно подобранные подшивки газет и журналов, вышедших в свет не позднее дня его «смерти». На все попытки Лиз разговорить, растормошить его он отвечал лишь удивленно-сонным взглядом да пожатием плеч.
Вдобавок к газетам и журналам он перетащил в свое убежище книги по истории Венеции – отныне не было для него событий актуальнее, чем война с Генуей или Второй крестовый поход.
Он пользовался париками и гримом, хотя почти не выходил из комнаты. Он упорно менял внешность, привычки, вытравливал воспоминания, решив во что бы то ни стало стать другим.
Он не позволял Лиз оставаться с ним на ночь – они перестали быть мужем и женой.
Лиз была самой стойкой из привычек, и он приложил много сил, чтобы избавиться от нее, как избавляются от курения.
– У тебя развязался шнурок, – сказал Ермо.
– Да? – Она остановилась и испуганно посмотрела на узкий ботинок, потом на Джорджа. – Боже правый…
Кряхтя, он опустился на корточки и неторопливо завязал шнурок.
– Все в порядке. Теперь можно и возвращаться.
И они повернули назад.
Через два дня они покинули Шато-сюр-Мер.
…Егорий Храбрый верхом на плоском белом коне, астролог и чернокнижник князь Данила Романович Ермо-Николаев, хлыщ с обвитой розами тросточкой и шелковой ленточкой с квитанцией из ломбарда вместо часов, лейб-гвардеец в блестящем придворном мундире, сенатор с геометрически правильным лицом, подпертым высоким шитым воротником, проколотые шпагой и штыком, пахнущие порохом, кровью и французскими духами рубашки, мундиры, фраки, хрустящая от высохшей крови визитка, долгополая шинель с «разговорами», шишечка, отбитая от лестницы выстрелом террориста, целившего в министра, перстень с «еленевым» камнем, краснощековская гитара, сопровождавшая дядю с юнкерских времен, наконец, огромный уродливый кактус, игравший роль рождественской елки, – все это – а еще призраки, свои и чужие воспоминания, сновидения, чудовища и рыжекудрые ангелы с бело-розовыми крылышками, путешествовавшие контрабандой, – было доставлено, водворено и бережно размещено в палаццо Сансеверино после того, как Джордж продал дом в Нью-Сэйлеме и сказал последнее прости Америке, «вдохновленный, – как писала одна из американских газет, – примером Генри Джеймса и Элиота».
В те дни о нем много писали: роман «Убежище» получил Пулицеровскую премию, был переведен на немецкий, французский и итальянский. Именно тогда его и поставили в ряд с Буниным и Набоковым.
Критики выискивали малейшие следы «русскости» в его книгах, усматривая ее то в болезненном внимании к падшей женщине, в сентиментальности, странно сочетавшейся с жестокостью, то в «надрывном» внимании к вечным, фундаментальным вопросам бытия, в нервном стиле диалогов и в развернутых монологах его философствующих бродяг и отщепенцев. («Философия, – заметил он однажды по другому поводу, – это всего-навсего любовь к Софье, и в этом у нас наверняка не было бы разногласий ни с Платоном, ни с Кантом».)
Это верно лишь отчасти, поскольку сам Ермо все же продолжал считать себя православным американцем и еще раз – американцем, выросшим в Новой Англии: «А это не география, а судьба». Впрочем, он снисходительно прощал журналистам их склонность к нумерологической магии, побуждающей ставить русского Бунина рядом с русско-иностранным Набоковым и – Бог троицу любит! – с иностранно-русским Ермо-Николаевым. «В отличие от них у меня теперь есть свой дом. Это очень важное отличие».
Валлентайну-младшему он написал то же самое, добавив лишь: «Свой дом. Nobile castello». Замок в преисподней, куда вернулся Вергилий, ибо ему вместе с другими тенями великих не было суждено увидеть лик Божий.
А дом словно ждал его, он встретил его запахами воска, морской соли, лаванды, влекущей темнотой ветвящихся коридоров и гулкой пустотой залов, беременной одиночеством, голубыми цветами человеческих тел на потолках и плафонах, зеркалами, смутно белеющими в зеленоватой полумгле статуями, мягко колышущимися шторами, люстрами, скрипучим, как молодой лед, паркетом, обветшалой галереей – пространством, готовым стать его временем.
Вместе с Лиз они заглянули в треугольную комнатку, где все было как прежде, все на своих местах – кресло, столик с врезанной в столешницу тусклой шахматной доской, посреди которой круглилась чаша Дандоло, и все это по-прежнему отражалось в высоком зеркале. Как сто или даже триста лет тому назад.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу