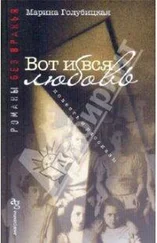Марина Голубицкая - Рассказы
Здесь есть возможность читать онлайн «Марина Голубицкая - Рассказы» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Современная проза, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Рассказы
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Рассказы: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Рассказы»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Рассказы — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Рассказы», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Я звоню накануне.
— Ты как?
— Не очень. Диагноз плохой.
Диагноз я знаю уже месяц, но спрашиваю:
— Какой диагноз?
— Онкология. Не самая худшая.
Новости из Германии сводились к цифрам. Она тает, худеет, жидкость в легких… Жидкость в легких — больше двух литров. Размеры опухоли — размеры несчастья. Химия: первая, вторая… Ей стало лучше, она прибавляет. Она прибавила семь килограммов! Тысячи долларов на лечение. Третья химия. Десятки тысяч. Она уже не умирает… Ей стало лучше. Она водит машину!
И мы перестали все время думать о ней. Кто–то загадывал — иногда, кто–то молился — от случая к случаю. Виктор в Германию не ездил, было некогда.
11
В другой компании обсуждают Тимофеева.
— Они что, расходятся?
— У нее рак!
Света возвращается год спустя. Повидаться. Выглядит чертом в юбке. Смуглая, золотистые волосы.
— Это парик, дорогой подарок. От «жен правительства города Бонна», я для них живой экспонат. Думали, что умру в три дня.
— А ты?! Что ты чувствовала?
— Жалела, что сразу все не кончилось. Учила немецкий. Читаю и танцую в наушниках. Санитар подошел: «Фрау Тимофеефф, я не видел, чтобы кто–то танцевал после химии».
Расправляю плечи, смотрю завистливо:
— Стильно выглядишь.
— Если б так еще и внутри…
Впервые вижу портрет: простота и царственная осанка. Загадочный блеск в тени ресниц. Разговариваем втайне от Виктора.
— Витька обещал мне дать яду. Чтоб не мучиться. Когда попрошу.
— А ему — в тюрьму?
— Да не бойся. Теперь не надо. Еще чуть–чуть подлечусь.
Теперь не надо. Спасибо, лес…
— Ты жалела себя?
— Один раз. Мама ушла в магазин, меня оставила на улице. Я сижу в инвалидной коляске, в плед укутана, отражаюсь в витрине, а все вокруг куда–то спешат… Знаешь, у нас раньше жил кролик, такой чистюля, бегал к корытцу, чтоб присесть…
Смешно показывает кролика.
Мы должны встретиться до ее отъезда — в театре, на закрытии сезона.
На закрытии сезона в зале столики. В зале столики, на сцене оркестр. Тимофеевы не пришли, не позвонили, с нами сидят ее родители: Светочка болеет. Как хорошо рассказывает ее мама: про студенческую молодость, про Свету…
Повторяют сюжет прошлого лета. Свете все хуже, она тает. Навещать нельзя, ей очень плохо. Успевают довезти до Германии. Говорят, там ей сразу стало лучше.
12
Появляюсь в другой компании .
— Тимофеев на Канарах загорает. Жена умирает, а он развлекается.
Вздрагиваю. Как так можно? «Умирает…» Она поправляется! Осталось чуть–чуть. На Канарах? Это отдых для рабочего класса.
— Он там с Ритой, с переводчицей этой.
— Да вы врете!!
— Все давно уже знают… Кто ей, думаешь, квартиру купил?
Думаю… Никто не безгрешен. Но ни разу не съездить к Свете? Он все годы без отпуска, тяжесть на сердце… Столько денег… Рак неизлечим…
Потом у Риты родится мальчик. Потом. Когда Света умрет.
13
Перед смертью Светлана молчала. Отворачивалась, смотрела в окно.
Он не дал ей яду, не приехал… Приезжала Настя — и не дождалась. Приехал старик — и не застал. Увез из Германии жену и горстку пепла. Горстку пепла, что осталась от дочки…
Я впервые попала в сказку. Про злодея, обман, про неверность. Про девочку, что явилась почти чудом. Она ошиблась, прыгнула в костер. И не вскрикнула. Витает над нами облачком. И не исчезает — до сих пор.
Гений и злодейство
Я замыслила злодейство против гения. Живого гения, который может обидеться и, не дай бог, заболеть. С другой стороны, раз человек еще жив, то кто нам сказал, что он гений?
Художник
Он самый известный художник. За рубежом. Точно не помню, как соединяются между собой предыдущие два высказывания. Быть может, их скрепляют уточнения, например: самый известный за рубежом художник из нашего города. Или: самый известный художник, чьи картины давно полюбили как на родине, так и за рубежом. Последний пассаж не слишком удачен, но ведь все зависит от того, с какой целью вы громоздите эпитеты: заполняя поздравительный адрес или сочиняя кроссворд. В статье, предваряющей роскошный альбом художника, написано, что уезжающие в Израиль на п. м.ж. брали с собой его шедевры вместо бриллиантов. Что сомнительно. Бриллианты — маленькие камушки, которые стоят неразумно дорого и именно поэтому испокон веков были удобной формой транспортировки целого состояния. А картины? С ними одна морока. Сначала здесь докажи, что художественной ценности они не имеют, потом там доказывай обратное. Вряд ли кому–нибудь удалось убедить экспертов в малоценности своей художественной собственности, а значит, пришлось платить непомерно высокий налог и уж потом вынимать эту собственность из рам, скатывать в рулоны — я забыла предупредить, что полотна у художника очень большие… Так что если кто–то из эмигрантов и прихватывал с собой несколько рулонов, то только потому, что действительно их любил и, не в силах оставить, брал с собой как нечто родное, пусть и неудобное в транспортировке, как, например, бабушку в инвалидной коляске.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Рассказы»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Рассказы» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Рассказы» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.