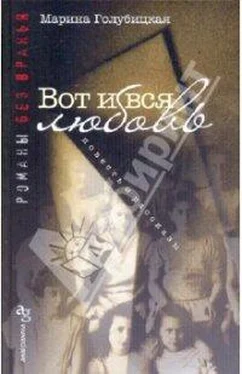Как хорошо мы посидели в тот вечер! Пели песни — без Якушева, без Стрельникова, потому без гитары, но все равно хорошо. Фотографировались. Провожали всех на вокзал…
Мне не удалось организовать паломничество в Иерусалим, но наконец свет забрезжил: Ленины родители собрались в гости к Фиме. Я заранее предвкушала, как Е. Н. встретится с матерью своего любимчика.
— Я не смогла у нее долго пробыть, — оправдывалась Дина Иосифовна по приезде, — обстановка меня угнетала, и я видела, что она утомлена.
— Разве вы не пошли на скамеечку? Не поговорили о Лене?
— Да нет. Она о тебе говорила. Говорила, какая у вас красавица–дочка.
Я не поверила. Но вскоре получила письмо.
Знали бы вы, мои благодетели, как я накинулась на ваши послания!
От фотографий — к книжке, от книжки к фотографиям, снова к книжке. Так наш пес Том, нальет ему, бывало, мама супу в миску и косточку рядом положит — именно так: он не мог остановиться на чем–нибудь одном. И не от жадности — простая дворняга, он был пес деликатный (за всю его долгую у нас жизнь я ни разу не видела, как он, пардон, какает, и уж тем более никогда не смотрел в рот жующему человеку). Но уж очень хотелось и похлебки — больно хороша! — и косточки, а как распределиться?
Вот и я: уж больно хороша Ирина с детьми на диване и Леня–культурист с младшей дочкой на плече! И щемящее чувство грусти не отпускает от лица вашей старшенькой. Помните, как это чувство описано в «Красавицах» — не помню, чей рассказ. Смотрю и смотрю на лицо ваше Машеньки — и оторваться не могу, хотя книга так и манит! (А, может, это в рассказе «Легкое дыхание» — про грусть–то?)
А книга! «Какой–то Осоргин…» — первая мысль. И сразу же вторая, как только прочитала первые строчки его «Времен» — чтобы узнать, что это за «какой–то Осоргин»: «Боже мой, Ленечка!! Как же ты угадал, что это та самая книга, о которой давно здесь стосковалась моя душа без «моего» Диккенса, без хорошей книжки вообще? Как в последних письмах Куприна: «…а главное — за весь месяц ни одного русского слова. У меня такое чувство, что во рту как будто заплесневело».
Да дело даже не в слове, не в стиле — в содержании. Это же Библия моего поколения, выросшего на Каме (т. е. тех из моего поколения, кто вырос на Каме, и всех наших тамошних предков). Ведь нам судьба подарила — по милости великой! — «Чистое золото незапыленного солнца». И мы можем с гордостью сказать: «река–матушка» и «лес–батюшка»: «Весь с головы до ног, с мозгом и сердцем, с логикой и примитивным всебожьем, со страстной вечной жаждой воды и смолы и отрицаньем машины, — я был и остался сыном матери–земли отца–леса и отречься от них не хочу». Боже мой! Ведь это наше кредо, наша истинная вера — моя, моей сестры Татьяна Николаевны, моей любимой (за эту–то общность веры, за наше единое с ней кредо и любимой–то!) — любимой Надежды Игоревны, ее папы, моего отца, моей мамы, моего дедушки!
…Раннее утро. Мы с папой на берегу под горой, ждем рыбаков с раннего утреннего лова. Я засмотрелась на мелкую, долго мелкую у берега водичку, хрустально прозрачную, еле заметным движением полирующую чистейшее песчаное дно. Оно рубчатое — мелким твердым рубчиком — « точь–в–точь как небо у котенка, когда он широко зевает». Тоже мелким рубчиком, тоже девственно чистое, розовато–золотистое, полностью выплыло нам из воды — прямо вверх по течению, нам в лицо — Солнце! «Чистое золото незапыленного солнца», и вместе с ним, прямо из Солнца, выплывают первые рыбацкие лодки. Сушат весла, и вода с них стекает сначала струйками чистого расплавленного золота, а потом алмазными каплями: все золото и все бриллианты Амстердамской алмазной биржи собраны здесь.
Пока папа выбирает рыбу, я смотрю на ту сторону Камы. Там башкирская река Ик впадает в Каму прямо напротив нашего села, потому оно — Икское Устье. С высоченного берега–мыса, на котором стоит село, ясно видны зеленые воды Ика и как они смешиваются со «стальной» водой Камы. По берегам Ика — урема, место не проходимое для детей. В ее непроходимости вызревает сначала ежевика, потом черемуха и калина (когда у берегов уже тоненький ледок, только тогда ломают калину и рвут кистями черемуху); и совсем потом собирают ягоды шиповника. Это по первопутку — по первой санной дороге через Каму, по которой всю зиму идут и идут обозы с сен ами, накошенными на заливных Камских лугах — тоже для детей не проходимых: трава взрослому по пояс, нам — « с головкой» и пахнет так, что можно «угореть». Даже сено такое душистое, что Кама всю зиму дышит этими летними запахами. А ягоды, особенно ежевики (да все!), были такие крупные, такие сладко–винные (в объятиях уремы сахар начинал бродить — не окислялся и не давал порчи!) — что каждая темно–сизая ягода, покрытая девственным пушком, на просвет играла рубиновыми искрами — как бутылка темного стекла с драгоценным красным вином. «Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед…» — эти цветаевские строчки всегда вызывают у меня это видение: я держу, разглядывая на свет, любуясь искрами рубина там, в таинственной глубине этой тяжелой, прохладной, несмотря на жару, ягоды, вынутой из глубин парной, пахучей, темной уремы… Так, верно, любуются игрой вина и ощущением прохлады таинственности бутылки, только что взятой из погреба.
Читать дальше