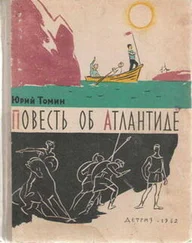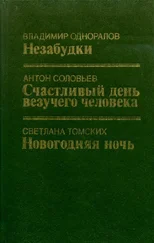— В чем ты пойдешь? — спросил Отец.
— В синем платье. Если оно еще годится на меня.
Зародышу было жаль, что умолк этот голос, направленный к нему изнутри.
— В крайнем случае надену лиловое. Вообще, боюсь, мне пора заняться своим гардеробом.
Зародыш поморщился. Ему уже довелось побывать у портнихи, и это было одно из самых неприятных его впечатлений. Он вообще не любил близости чужого тела. За исключением Отца и Мики. А портниха к тому же трогала и поворачивала Мать, что было просто нестерпимо. Все раздражало: и звон булавок, и сиплое от усердия дыхание, и терпкий скрежет мела, тянущего ткань…
Собственно, и сам процесс переодевания был не слишком приятен Зародышу. Его стеснял туго затянутый корсет. Еще хуже были туфли на высоких неустойчивых каблуках, лишающие чувства покойной надежности.
Впрочем, на этот раз Зародыш был настолько занят своими мыслями, что почти не замечал мелких неудобств. Он все обдумывал слова, сказанные Матерью. Было так грустно и стыдно — оттого, что Дора не оправдала ее надежд. Зародыш лежал, понуро свернувшись, и старался не напоминать о себе. Так нашаливший ребенок, проступок которого еще не обнаружен, избегает матери и страдает от ее ласк и похвал.
И все–таки Зародыш был несправедлив к Доре. Да, она не стала для Мики сестрой–защитницей. Но разве она не сделала в своей жизни гораздо больше? Она вывезла из горящего города сотни сирот, и сколько еще детей подобрала на станциях, заблудившихся, отставших от поездов, брошенных на произвол судьбы! Разве не могла она настоять на своем, проводить до парохода этот молчаливый поток одинаковых коричневых костюмчиков, горбатых рюкзачков — и уйти домой, чтобы ждать там возвращения мужа и ребенка? И спасти их. Или погибнуть с ними вместе. Или не дождаться их и погибнуть одной. Во всяком случае, быстро. Но Дора была человеком правильным, и математика ее была проста: тысяча детей — это в тысячу раз важнее, чем одно дитя, пусть даже такое дорогое и ненаглядное, как ее Лизонька. И она боролась за каждую из этой тысячи жизней еще и оттого, что любая потеря сделала бы ее жертву менее оправданной.
Возможно, Зародыш не мог оценить эту жертву, поскольку ему с самого начала было известно, что Бронек не вернулся в Киев, что не было его на днепровской пристани, в толпе, теснимой на две стороны солдатами. Не было на бесконечных станциях среди тех, перед кем Дора захлопывала двери своего сиротского поезда. Не было в очередях, покорно пропускавших Дориных сирот в станционные столовые, откуда шел вызывающий слезы нетерпения запах теплой каши.
Но Дора, Дора–то этого не знала! И каждый раз, когда униженная, враждебная толпа оставалась позади, темнела и расплывалась — ложная память с подлой готовностью подставляла в ее гущу два лица.
Надо сказать, что судьба была к Доре немыслимо добра. За год пути она не похоронила, не потеряла ни одного ребенка. Ее длинный поезд каким–то чудом миновали инфекционные болезни, от которых гибли дети по дороге на Урал, в Сибирь, в Среднюю Азию. Она чувствовала себя победительницей в тот день, когда вела по Ташкенту длинную колонну детдомовцев. Подросших, отвыкших ходить по твердой земле, жалких в своей обветшалой одежде и развалившейся обуви. Дора очень устала, но каждый шаг доставлял ей удовольствие. Волновали незнакомые запахи чужого жилья, теплой пыли, цветущих деревьев. Дору ждали, никто не старался от нее избавиться — наоборот, каждый спешил ей чем–то помочь. Детей накормили и уложили спать прямо на земле, на снесенных со всего города коврах.
Спящие на земле дети… это было зрелище, от которого не веяло ни покоем, ни умиротворением. Двое суток они не просыпались и лежали, как брошенные на поле боя мертвецы, и все двое суток Дора не смыкала глаз, и не отпускала домой врача, который тщетно старался ее успокоить. А потом они стали шевелиться, то в одном, то в другом конце двора, и врач не давал Доре будить спящих, а у нее не было терпения ждать, она боялась, что кто–нибудь из них не проснется, а это было бы просто чудовищно: здесь, на теплой земле, не ведавшей, что такое налет или обстрел, после всех ужасов дороги!
Дора чувствовала себя ответственной за каждого из этих детей даже тогда, когда их разделили на несколько больших групп и развезли по разным городам. И она ничуть не удивилась, когда где–то через год получила письмо из Намангана, от Гали Шаломеевой. Эта девочка, которую Дора не помнила в лицо, обратилась за помощью именно к ней, а не к кому–нибудь из киевских воспитателей, сопровождавших Галин детдом из Ташкента в Наманган. Едва дочитав эти несколько строк, в которых пугающе просто говорилось о немыслимых вещах, Дора привычно ринулась по кабинетам — и уже через пять дней оказалась в Намангане.
Читать дальше