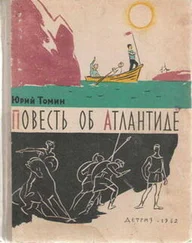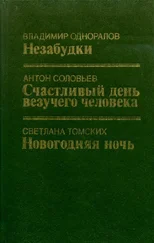А Бронек? Разве не бросил он свою семью со скандалом, с юной жестокостью — ради искусства, ради своих убеждений? Разве не висели у него за спиной тяжким горбом сомнения, угрызения совести? Дора видела один надрыв в этих его воспоминаниях, в бесконечных письмах, которые он с любой оказией отправлял в Польшу.
На письма никто не отвечал, и для Доры так было даже спокойнее: ей не хотелось делить Бронека с какими–то неведомыми родственниками. Они не вызывали в ней ни особого тепла, ни особого любопытства. Иногда Дора пыталась представить себе его родителей, его смешную старенькую бабку, его дом — что–то такое… чопорное, золотисто–коричневое, где Бронек однажды раскружился в блистательном шенэ, широко раскинув свои стремительные руки, и понесся волчком прочь — в Париж, в Берлин, в Лейпциг, в Ригу — и прямо к ней, к Доре, из–за угла, по темному коридору — споткнулся и застыл… с этими руками, будто готовыми для объятья, чуть запыхавшийся, чуть смущенный…
Дора увидела его всего сразу. Он ни на кого не был похож. Как–то по–нездешнему собранный, серьезный… Почти мрачный. Точнее, так: у него было лицо мрачного человека, который, открыв дверь, внезапно обнаружил, что на улице теплая солнечная погода. Странным было все: его кожаная курточка со стоячим воротником и множеством пряжек и ремешков, стальная челка, прикрывающая лоб, которая не только не старила лицо, но прибавляла ему что–то мальчишечье… Дора никогда не встречала таких пристально–светлых глаз. Припухшие подбровья скрывали веки, и от этого казалось, что глаза не моргают.
— Вам куда? — спросил он с легким, очень милым акцентом.
— К Марии Анатольевне.
Он вежливо указал рукой направление. Она благодарно закивала, хотя прекрасно знала, куда ей идти.
У Марии Анатольевны Дора посидела недолго: все беспокоила нелепая мысль, что он еще стоит за дверью с этими своими раскинутыми руками. Наскоро рассказала о том, что жаль было бросать работу в Чугуеве. «Там есть такие девочки — прелесть! Если бы их сюда, к вам! Я, конечно, пыталась работать с ними по вашей системе, не спешила ставить на пуанты… Но эта ужасная директриса… Она во все вмешивалась! Если бы не она, я бы осталась. А так — пошла в обком комсомола и сказала: «Хватит! Я и так отработала два года вместо одного, а теперь хочу перевестись на дневное отделение!» — «Конечно! — подхватила Мария Анатольевна. — Ты способная, ты должна получить полноценное образование! К тому же у тебя брат — больной человек, ты обязана быть рядом. Кстати, как он?» — «Ничего. Закончил институт. Работает юристом в какой–то важной организации.» — «Очень, очень милый человек! Ты ему кланяйся».
Дора вышла из кабинета и изумилась: в коридоре никого не было. Правда, когда она зашла к девочкам, там сразу заговорили о нем. «Жаль, что ты ушла! У нас сейчас так интересно! Приняли нового балетмейстера! Он родом из Польши. Такой талантливый, необычный! Совсем молодой — и уже поседел. Это когда он бежал от фашистов. Он будет ставить «Жизель». А где твой брат? Он совсем перестал ходить в театр. Передай ему привет, скажи, что мы скучаем, что откидной стульчик его ждет!»
Она вышла от девочек, закрыла спиной дверь и замерла. Он снова стоял перед ней — разве что руки не раскинуты. Дора и не видела рук, видела только серые глаза и небрежную россыпь волос, падающих на лоб.
Зародыш так любил этот день — самый странный и, наверное, самый красивый в жизни Доры! К нему все сходилось, от него все разбегалось лучами, как от середки цветка: цепь немыслимых ощущений и поступков, смена восхитительных картин…
Ах, если бы можно было показать все это Матери! Зародыш напрягался, мучительно и вдохновенно, пытаясь пробиться к ее воображению, вмешаться в ее сны. Но то ли это было невозможно, то ли для Матери настолько обычен был вид пустого темного театра, закулисной мишуры, всех этих фанерных замков и фанерных лебедей, что она все равно приняла бы свои видения за смутное воспоминание об одном из тех театров, где ей доводилось выступать.
Пожалуй что наряд Доры должен был привлечь ее внимание. Такого она, разумеется, не видела нигде — да просто не поверила бы, что девушка может ходить по улице в трикотажной футболочке, белой с синим, и в юбке, едва прикрывающей колени.
Но главное было даже не в юбке. В чем–то другом. Весь облик Доры… Это был облик другого мира, другого времени — чуждый и неприемлемый для Зародыша, который ощущал себя принадлежащим к изящному, утонченному веку своих родителей — пусть и знал он его большей частью по звукам. Нежное и густое шуршание складок, оборок и кружев дорогого белья, шелковистый скрип корсета, все эти шорохи, вздохи, полыхания, скольжения, присвисты хорошо сшитых платьев, тонко звенящих и постукивающих своими пуговками, крючками, украшениями, — говорили Зародышу куда больше, чем фотография, которую он прекрасно знал и всегда мог увидеть. В саду, на растопыренной Дориной ручке. На подоконнике — прислоненную к стакану…
Читать дальше