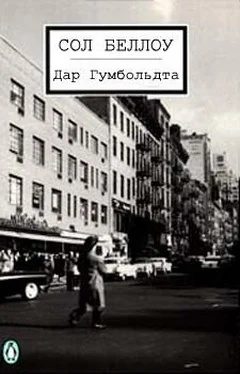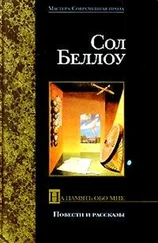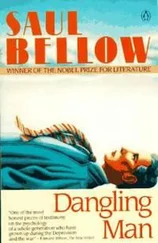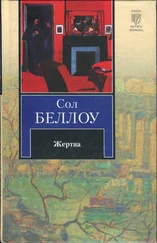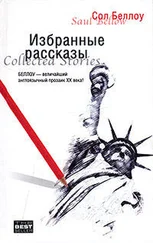За мной маячил книжный шкаф, и когда большая часть веса уже была перенесена на предплечья и моя голова пришла в норму, прозрачные круги исчезли, а вместе с ними и призраки фатального кровоизлияния. Я видел ряды книг вверх ногами. Прежде я стопками складывал их в кладовке, но Рената вытащила их на свет божий и поставила под стекло. Я предпочитаю, стоя на голове, видеть небо и облака. Очень забавно изучать облака вверх ногами. Но сейчас я рассматривал корешки, которые принесли мне деньги, признание и призы: пьеса «Фон Тренк» в многочисленных изданиях на разных языках и несколько экземпляров моего любимого и провального сочинения «Некоторые американцы. Смысл жизни в США». «Фон Тренк», пока он шел на сцене, некоторое время приносил мне около восьми тысяч долларов в неделю. Правительство, которое прежде не испытывало никакого интереса к моей персоне, внезапно потребовало семьдесят процентов в качестве оплаты его созидательных усилий. Но в этом для меня не было ничего неожиданного. Ты платишь Кесарю Кесарево. По крайней мере, знаешь, сколько ты должен. Деньги принадлежат Кесарю. И кроме того: Radix malorum est cupiditas. Это я тоже знал.
Я знал все, что мне полагалось знать, и ничего из того, что мне действительно было нужно. В финансовых делах я никогда не разбирался. Конечно, тут дело в высшем образовании, ставшем великим и универсальным американским возмездием. Им даже заменяют карцер в федеральных исправительных заведениях. Нынче каждая крупная тюрьма — сплошной благоденствующий семинар. Тигры ярости сходятся с лошадьми образования, производя на свет гибриды, немыслимые даже в Апокалипсисе. Без особых усилий я потерял большую часть денег, которые Гумбольдт ставил мне в вину. Он и сам предъявил мне к оплате чек на несколько тысяч долларов. Я не стал протестовать. Мне не хотелось обращаться в суд. Хотя Гумбольдта, скорее всего, такой поворот только порадовал бы. Он обожал судиться. Но чек, который он предъявил к оплате, был подписан моей рукой, и потребовалось бы колоссальные усилия, чтобы объяснить судьям суть своего недовольства. И потом, суды меня убивают. Всех этих судей, адвокатов, приставов, стенографисток, скамьи присяжных, деревянные панели, ковры, даже стаканы для воды я ненавидел хуже смерти. Более того, в то время, когда он предъявил к оплате чек, я вообще находился в Южной Америке. Этот ненормальный, отпущенный из «Бельвю», разгуливал по Нью-Йорку, и некому было его остановить. Кэтлин пряталась. Его полусумасшедшая мать жила в доме престарелых, а дядя Вольдемар оказался одним из тех вечных младших братишек, которым совершенно чужда всякая ответственность. Обезумевший Гумбольдт метался по Нью-Йорку. Вероятно, он смутно сознавал, какое удовольствие доставляет интеллектуальной тусовке, шептавшейся о том, что он спятил. Отчаявшиеся, обреченные на сумасшествие писатели и склонные к суицидам художники — величайшая эстетическая и социальная ценность. В то время Гумбольдт олицетворял Провал, а я — новорожденный Успех. Успех меня озадачил. Я чувствовал себя виноватым и корчился от стыда. То, что каждый вечер играли в «Беласко», было совсем не той пьесой, которую я написал. Я только предложил кипу материала, из которого режиссер выкроил, сметал и сшил своего фон Тренка. Погруженный в раздумья, я бормотал, что в конце концов Бродвей прилепится к району швейных мастерских и сольется с ним.
У полицейских фирменный способ звонить в дверь. Они звонят как скоты. Конечно, мы вступаем в совершенно новую стадию истории человеческого сознания. Полицейские изучают психологию и испытывают определенные чувства к комедии городской жизни. Два здоровяка, стоявшие на моем персидском ковре, были экипированы пистолетами, дубинками, наручниками, запасными обоймами и рациями. Дело и впрямь необычное — изуродованный «мерседес», мирно стоящий на улице, — позабавило их. Пара черных гигантов принесла с собой запах замкнутого пространства полицейской машины. Их амуниция побрякивала, а бедра и животы распирали форменную одежду.
— В жизни не видал такого зверства по отношению к автомобилю, — признался один из них. — Похоже, вы схлестнулись с очень скверными парнями.
Он прощупывал меня осторожными намеками. На самом деле копам меньше всего хотелось услышать о гангстерах, ростовщиках или о проблемах с какой-нибудь шайкой. Желательно вообще ни единого слова. Впрочем, все закономерно. Я, конечно, мало похож на человека, связавшегося с бандитами, но все-таки совершенно исключить такую возможность они не могли. Даже полицейские смотрели «Крестного отца», «Французского связного» [102], «Бумаги Валачи» [103]и прочие кровавые триллеры. Я сам верил в эти гангстерские дела, живя в Чикаго, поэтому сказал, что ничего не знаю, и замолчал, словно воды в рот набрал. Думаю, полицейским это понравилось.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу