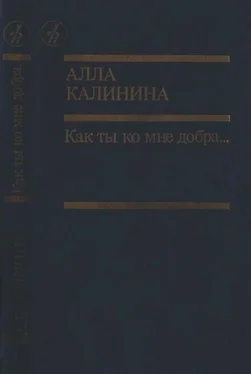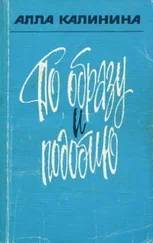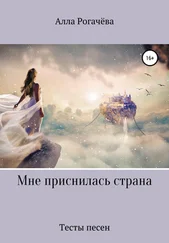Но день проходил за днем, а страшный сон все продолжался, ничего не возвращалось назад.
Самое лучшее время было вечером — смотрели новый, недавно купленный телевизор. Телевизор всем был еще в новинку, смотрели все подряд, обедали и ужинали перед телевизором, поэтому еда растягивалась на весь вечер, к столу подавалась водка, и голос Сергея Степановича делался все громче, все надоедливее. Иногда Вета не выдерживала, вставала и уходила к себе, недосмотрев передачи. Ее никто не останавливал, считалось, что это неделикатно, а Вете так хотелось, чтобы кто-нибудь пошел с ней: мама или, еще лучше, Ирка. Но Ирка избегала ее, по утрам собиралась куда-то тихо, как мышка, и исчезала на целый день. Мама тоже уходила, телевизор молчал, накрытый салфеткой; наступала тишина, от которой можно было сойти с ума. Это было хуже, чем Иркин ускользающий взгляд, чем мамины слезы, чем громкие разглагольствования Сергея Степановича о том, что вся беда нынешнего поколения в падении нравов. «Раньше у людей были идеалы, были нормы, и они не позволяли вести себя кто во что горазд. Скромнее, скромнее надо быть, об общественном думать, а не о личном», — говорил он.
Это было невыносимо, но молчание было еще хуже. И вдруг однажды Ирка не выдержала. Нахмуренная, сердитая, как ураган влетела она в комнату, хлопнула дверью, встала перед Ветой, сверкая глазами, сжимая нервные, очень красивые руки.
— Вета! Я так больше не могу! Я не могу смотреть, как ты мучаешься. Если ты можешь, если хочешь, давай поговорим…
— Ну конечно, хочу…
— О самом главном, Вета, иначе все это вообще ничего не стоит.
— А что самое главное? Наверное, ты думаешь, что я нуждаюсь в исповеди? Все совсем не так. Может быть, тебе в это трудно поверить, но, знаешь, он ведь меня тогда выгнал, я не сама ушла. Ну вот. Видишь, ты мне совсем не веришь, у тебя даже глаза стали зеленые…
— Как я могу в это верить, разве я не видела своими глазами! Он не то что любил тебя — он тебя боготворил…
— Именно — боготворил. А знаешь, Ира, это, оказывается, не так-то легко, когда тебя боготворят. Он, наверное, думал, что я какое-то неземное существо и со мной обращаться надо совсем по-особому. А мне ничего это было не нужно, понимаешь, я человек как человек, обыкновенный… Мне очень трудно было, как-то ничего не выходило. Ты не думай, что я оправдываюсь, я, конечно, виновата, я дома мало бывала, и он вообразил невесть что. А этого не было, не было совсем! Я не то что не изменила ему, у меня и мыслей таких не было. Я его любила, хотела любить. Его одного. А ничего не получалось. Я не знаю почему, сама не понимаю. А он любил, а думал обо мне гадости. Он просто с ума сходил, а я от него удирала. Вот в чем я виновата, только в этом и ни в чем больше, понимаешь?
— Конечно, понимаю. Я тебе верю, Вета, ты не думай. Но мне так его жалко, так за него страшно, что же он пережил в эти последние минуты, что он пережил…
Ирка плакала, слезы катились по ее лицу, струились широкими блестящими дорожками, а Вета смотрела на нее и думала: «Бедный Рома, бедный-бедный Рома, почему он был такой? Он был слишком хорош для меня, и для своей жестокой матери, и для всей этой страшной жизни…»
Почему, почему она не родила себе ребенка? Ведь ей тогда так хотелось, а он, Рома, даже не понял, не сумел понять. Еще бы, ведь ей, Вете, надо было заканчивать образование, он слишком любил ее, чтобы так перегрузить ее пустую, бессмысленную, ленивую жизнь, а сейчас уже ничего нельзя исправить. Она осталась одна, ни Ромы, ни следа от него.
Пришел сентябрь и закрутил свое золотое колесо. Первое, что сообщили Вете в институте, была новость про Горелика. Он завел себе новую подружку, маленькую пухлую жизнерадостную блондиночку в таких же больших, как у него, роговых очках.
Однажды в институте Вета нос к носу столкнулась с ним в коридоре. Он широко раскинул руки и не дал ей проскользнуть мимо, радостно сияя улыбкой.
— А вот и она, — сказал он, — вот и моя пропажа. Почему тебя так долго не было видно? Я пол-лета в Москве сидел.
— Так, — сказала Вета, стараясь не глядеть ему в глаза, как будто в чем-то была перед ним виновата.
— Что, обиделась? — Он подхватил ее под руку и потащил в сторону. — Напрасно. Ты же ко мне особенно не проявляла… У тебя там любовь, муж. Я думал, ты не хочешь…
— Ах, да перестаньте вы, как вам не стыдно! Ничего это меня не касается.
— Тебя вообще ничего не касается, — сказал он сухо. — А я кто такой для тебя? Так, забавный человечек, фигляр. Разве я не прав?
Читать дальше