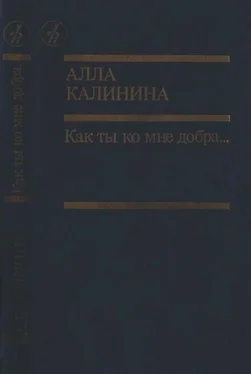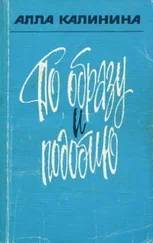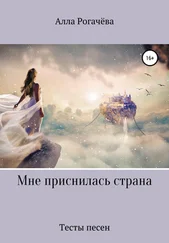— А ну тебя, Зойка! Не хочешь разговаривать, не звонила бы.
— Почему не хочу? Хочу. С отцом твоим даже несколько раз разговаривала. Отец у тебя — это да. Всем вам до него далеко. А у меня с мамахен совсем никуда. Живу на стипендию. Учеников набрала — балбесов. Вот от одного тебе сейчас звоню, пока он пыхтит над задачками. Умора! Но платят, глядишь — кое-чего и набегает. А ты по-прежнему в тепле и холе?
— Да.
— Ну чего ты обиделась? Разные мы с тобой, вот и все. Ну, не буду больше. Вет! Слышишь, Вет?
— Слышу. До свидания, Зойка. Ты позвони мне как-нибудь в другой раз.
— Ладно, позвоню, — Зойка засмеялась. — Только ты не обижайся. Ты же знаешь, я тебя люблю. Может, встретимся как-нибудь, погуляем, потреплемся?
— Ладно. В следующий раз встретимся.
Вета положила трубку. Она чувствовала себя такой обиженной, такой несчастной! И Романа она почти не видела, он готовился к защите диссертации, даже звонил редко. И вдруг явился.
Ах, он был такой же, такой же, нисколько не изменился! Как хорошо, что он пришел именно сегодня, словно чувствовал, что нужен ей.
— Ну, что же вы? Снимайте галоши, проходите.
Он топтался в коридоре, милый, светловолосый, неуклюжий и элегантный одновременно, разворачивал газету, а в газете оказалась ветка белой сирени. Вета схватила ее, прижала к лицу. Соцветие было едва распустившееся, холодное, поникшее, оранжерейные листья светлые и редкие, но это была сирень зимой, и по квартире сразу поплыл сладкий смешанный запах цветов и снега и чего-то еще незнакомого, волнующего, связанного с Ромой.
И вместе с Ромой Вета как бы его глазами заново видела комнату: низко опущенный оранжевый абажур, словно плавающий в коричневом сумраке, ярко освещенный стол, желтая скатерть с бахромой, свисающей почти до полу, мама за работой перед грудой носков. Ирка в углу дивана на темном ковре, она делает вид, что читает книжку, а сама вся насторожилась, возбужденная, любопытная.
— Папа! — крикнула Вета. — К нам Роман пришел!
— Добрый вечер. Здравствуйте… Добрый вечер…
Вышел отец, изменившийся за последнее время, постаревший, одутловатый.
— А! Здравствуйте, Рома, здравствуйте! Очень рад вас видеть. Ну, что там, на воле? Я здесь, знаете, как арестант, задыхаюсь без работы. Просто одичал… Юля, поставь чайку. А мы в шахматы? Ты позволишь, Вета? Ну, не дуйся, дай мне поговорить со свежим человеком, ты еще успеешь с ним наворковаться, успеешь… Только, чур, не краснеть, жених.
Они расставили шахматы на углу стола, играли быстро, не думая переставляли фигуры, смеялись; отец повеселел, остро, задиристо взглядывал на Романа сквозь очки.
— Ну, а ваши дела как? Когда защита?
— Вчера разослал автореферат. Таблицы, доклад, чертежи — все готово. В общем, все, и день уже назначен — девятнадцатое марта…
— Да, уже март на носу. Год, как началось со мной это безобразие. Подумать только, год, как я не оперирую, все от меня прячут, все скрывают. Разве это работа? Разве жизнь? Надо в конце концов на что-то решаться, или уходить на инвалидность, или уж работать, как все люди. А я опять на бюллетене. Чуть что, запирают дома, так же невозможно работать, что это за хирург, который не оперирует, можете вы мне объяснить?
— Я в этом вовсе ничего не понимаю, Алексей Владимирович, в жизни не лечился, но, наверное, врачам виднее, подправят, поставят вас на ноги…
— Врачам виднее… А я кто же, по-вашему, — не врач? Я ведь еще живой, я работать хочу… — Он разговорился и прозевал ловушку.
— Алексей Владимирович, а так вам ходить нельзя, так я вас съем. И так съем…
— А вот так?
Роман тихонько свистел сквозь зубы, потом сделал осторожный быстрый ход.
И отец мгновенно парировал.
— Мне необходимо рисковать, — сказал он, взблескивая очками. — В моем положении риск — единственный выход. Как вы думаете, а?
Он все чаще думал об этом. Был ли для него вообще смысл беречься? Аневризма может разорваться в любую минуту, сейчас или через двадцать лет — никто не знает, когда это случится, но вот исчезнуть, рассосаться она не может, как ее ни лечи. Оперировать? В его случае — к такой операции показаний нет. Значит, осторожность — навсегда? Гнетущая, надоедливая осторожность, страх. Так не лучше ли все-таки риск?
— Видите, вот я и выскочил!
— Ничья, Алексей Владимирович!
— Ну и что же, что ничья. Иногда ничья — это тоже выигрыш. Правда?
Потом они пили чай с вареньем.
— Роман, а вы помните Тарусу? — вдруг спросил папа. — Эту первую волшебную послевоенную тишину? И нашу Воскресенскую гору. Какое общество там собиралось, помните? Левики, Боголепов, Щербаковы, ваш отец. Он был молчаливый, но очень интересный человек, серьезный художник. Помните эти вечера у керосиновой лампы, стихи, разговоры? Кузнечики гремели, женщины шептались, с Оки поднимался туман. И мы были такие молодые, помнишь, Юля?
Читать дальше