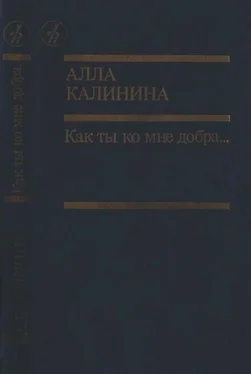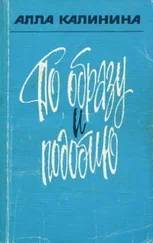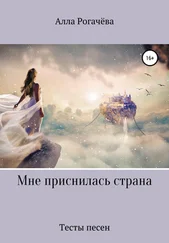— Родственники, наверное, — сказала Вета, — как интересно, совсем незнакомая нам жизнь, живут где-то, передают свои чудеса из поколения в поколение.
— Кто?
— Да вот эти Новские.
— Подожди, Лиза, этого не может быть. — Елисеев засмеялся и обнял ее за плечи. — Нет, ты знаешь, кто этот Новский? Это же Васька! Я же тебе рассказывал, он с детства мечтал, нас и война там застала! Неужели Васька?
Вот кого хотелось ему увидеть, по-настоящему хотелось. Неужели он так никогда и не уезжал из деревни, жил и жил все эти долгие годы, стал настоящим художником и вот расписывает теперь «ясные коробочки»? Значит, есть в жизни возможность и такой мечты, и такого пути, почему же ему всегда казалось, что правильный путь есть только один? И он все всматривался и всматривался в себя, пока его не нашел. А вот Васька выбрал совсем другое, удивительное, ни на что не похожее — уникальное ремесло.
— Лиза, это судьба! — сказал Елисеев. — Если это только он, мы к нему обязательно едем. Сейчас пойду и все разузнаю, в музее должны знать. Да я и не сомневаюсь, это Васька…
Ночью в гостинице было жарко. Они лежали на продавленных пружинных железных кроватях, лампочка под потолком была одна, тусклая, и читать было все равно нельзя. В форточку залетал мелкий снежок и таял на лету.
— Ты не жалеешь, что поехала? Я целый день сам не свой…
— Прекрасный был день. А вот завтрашнего я боюсь. Как меня встретят твои родители, они же про меня ничего не знают.
— Ничего, узнают, — сказал Елисеев, сладко зевнул и повернулся на бок.
Деревню он вспоминал быстрее, чем город, она не изменилась за двадцать лет, а детская память цепко держала ее в себе до сих пор. Стоило только спуститься с горки — и он сразу увидел и ферму, и всю улицу, и засевший в сугробах дом. Как-то он невесело выглядел, крыша была продавлена, наличники не крашены, дорожки не чищены, а кое-как натоптаны в один валенок. Зато родители были дома, зимой податься некуда.
Они вошли в холодные сени, и знакомые запахи обрушились на Елисеева, запахи старых кадушек, прелой соломы, зимних яблок, настывшего мокрого дерева. Он судорожно глотнул и шагнул в избу.
В первое мгновение ему показалось, что это шутка. Кто-то небрежно и торопливо, так, что даже видны были промахи, положил грубый грим на знакомые родные лица. Они не могли так постареть, не могло быть у матери такое сморщенное лицо, а у отца такой шамкающий беззубый рот (почему он не лечился, не вставил зубы?). И плечи его не могли так податься, согнуться. Елисеев зажмурился и обнял мать.
Нет, неведомый режиссер не ошибся, все было верно, потому что режиссером было само время. А он даже голоса их и оканье вспоминал с трудом, а ведь голоса почти и не изменились, разве чуть охрипли, отсырели в жарко натопленной избе.
— Ну как вы, как же вы тут жили без меня?
— Женя, — шепнула ему мать, — а чё ж ты жену не кажешь, жена-то — другая?
Неужели он не написал? Да нет, писал, просто он забыл сейчас совсем про Лизу, она тихо раздевалась у порога, скинула шубку, большой белый платок, в который специально укуталась, чтобы не застыть в дороге, и ее не было слышно.
— Лиза! Ну вот это и есть мои старики. Знакомься — Анна Александровна и Иван Митрофанович. А это — Лиза.
— Ага, понятно, — сказал отец, — а что же, сын-то там останется или как?
— А что ж сын? — неожиданно вмешалась мать. — Видали мы его? Одна карточка. А эта и сама приехала, и Женьку нам привезла, верно, дочка?
Лиза кивнула. Глаза ей застилали самой ей непонятные слезы, то ли стыдно было, то ли жалко их, то ли страшно, что это вот она, Вета, стоит на незнакомом деревенском пороге и ждет чьего-то одобрения и даже прощения… Слишком неожиданными для нее были эти двое заброшенных, занесенных снегом стариков. Как же мог Елисеев девять лет о них не вспоминать? Как он мог? Все это надо было понять, пережить, и она, улыбаясь сквозь слезы, ступила в комнату, обняла мать, ткнулась в небритую щеку отца и ощутила густой и сильный запах свежевыпитого вина.
Дальше пошло уже легче. Лизу усадили на стул поближе к печке, отец торопливо достал бутылку, мать стала собирать на стол, а Женя наделял их гостинцами и рассказывал про сына. Вете нравилось, что, рассказывая, он не оглядывался на нее и про нее не помнил. Он не стыдился себя. Это было редчайшее и ценнейшее свойство его сильной и чистой души, и она бесконечно уважала его за это. А значит, нечего было ей пугаться его деревенских корней, а надо было постараться привыкнуть и понять. И она распрямила плечи, огляделась, успокоилась. Тихо было там, на улице, за человечьими голосами. Снежный белый день еще светился в трех маленьких и глубоких оконцах. Подоконники заставлены были цветами в горшках, обернутых в пожухлые газеты. Стоял столетник, и две гераньки цвели, и Вета издали словно ощутила их горький пыльный запах, знакомый, перекидывающий слабый мосток между ее жизнью и этой. У мамы тоже когда-то на окне цвела герань, давно, когда на нее еще не вышла мода. Но лучше герани были сугробы за окном, кривая черная ветла, дом напротив с желто светящимися тремя окошками, точно такой же, как и их, словно их дом смотрелся в голубое снежное зеркало.
Читать дальше