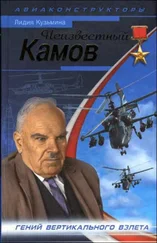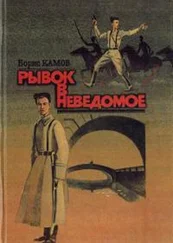– Знаешь, мы не встретимся больше. – Увидела, как беспомощно приоткрылся его рот, как недоуменно распахнулись веки, и быстро сказала: – Молчи, не говори ничего.
Отошла к входной двери, натянула штормовку, вскинула на плечо рюкзак, взялась за дверную ручку и медленно повернула к нему голову. Полумрак лестничной клетки уже вобрал ее в себя, и только лицо белело неясным, расплывающимся пятном.
– Я тебя люблю. Очень. Наверное, всегда буду любить. – И не то с сожалением, не то с печальной усмешкой добавила: – Ты становишься взрослым. Ключ кинь в почтовый ящик.
Хлопнула дверь. Потом прожужжал лифт. И стало тихо.
* * *
Время между ее отъездом и призывом Камов изрядно покуролесил, вдоволь вкусив классического российского лекарства от всех проблем, неприятностей и душевных терзаний. Под конец, однако, и водка, и собутыльники, и сговорчивые девушки вызывали в нем чуть ли не физическое отвращение, и призыву он даже обрадовался. Судьба определила его в расквартированную в Подмосковье часть ПВО, где он быстро устроил себе привилегированную жизнь художника-оформителя. Частые увольнительные зарабатывал портретами офицеров и членов их семей, а также копированием по их заказам репродукций из журнала «Огонек», начиная «Девятым валом» и кончая обнаженными дамами Рубенса, пользовавшимися большой популярностью, как в силу сюжета, так и благодаря пышности своих форм. В свободное время – а оно у него имелось – он работал для себя. Увольнительные проводил в Пушкинском и Третьяковке. Равнодушно-приветливая, открытая, суматошная Москва нравилась ему, как российскому человеку тех лет нравилась любая заграница. Собственно, она всем своим строем, включавшим помимо прочего иностранных дипломатов, корреспондентов, студентов, и была для него, коренного ленинградца, заграницей. Москва была больше Питера, разляпистее, бестолковее, но уютнее, подвижнее, легче, веселее, и люди сходились здесь быстро, просто, улыбчиво. Другая мера свободы была в этом городе. Здесь всего было больше и все было доступнее: контакты, женщины, книги, альбомы современного искусства в букинистических магазинах. К исходу первого года Камова вызвал непосредственный его начальник, отвечающий за идеологию и наглядную агитацию капитан Нестеренко, и, покашливая, протянул телеграмму: скоропостижно скончалась мать. Получив десятидневный отпуск, он уехал на похороны.
После поминок с соседями и несколькими хоть и близкими, но не вполне ему знакомыми родственниками он позвонил ей. «Такие здесь больше не живут». В тот же день Камов, за исключением книг, вынес на помойку все вещи, фотографии, разломал и выкинул мебель. Там же, на помойке, нашел пару выкинутых кем-то другим стульев, в соседней столярке за две бутылки и пятнадцать рублей сколотил топчан, стол и книжные полки. Потом до кирпичей ободрал за многие годы наросший слой обоев, стенки оштукатурил и побелил. К его отъезду комната была наполнена светом и пахла свежим деревом и краской. В последний день он перетащил из котельной мольберт, этюдник с красками и несколько старых работ. «Вот и все», – удовлетворенно подумал он, оглядевшись вокруг. Наутро Камов вернулся в часть.
В Москве он довольно быстро вошел в мир современных художников, находящихся либо в пассивной, как Фальк и Тышлер, либо в декларативной, как Шварцман, Рогинский, Рабин, оппозиции официальному искусству. Он стал частым гостем в подвалах и мансардах, где вожделенный дух свободы был насыщен не только водочными парами и простотой нравов, но и яростным стремлением прожить свою жизнь, не продаваясь за обусловленные послушанием дрессированного медведя блага членского билета Союза художников. Уже начали появляться первые веселые забавы соц-арта, в воздухе носились новые слова «концептуализм», «контекстуализм», оживали старые: «кинетика», «прибавочный элемент», «сделанность». Этот подпольный мир весьма приблизительно можно было поделить на две группы. Первая (назовем ее радикалами), горластая, задиристая, в сущности продолжавшая линию футуризма с ее акцентом на непременную адекватность сегодняшним, супермодерным трендам, состояла из кинетистов, соц-артистов, концептуалистов. Живопись, если и водилась в их практике, была не более чем одной из многих техник, пригодных для достижения цели. Другая (консерваторы) была прежде всего ориентирована на живописную пластику как таковую. И хотя художник Камов с интересом общался со всеми, все больше его захватывала радикальная идея самоценности и самодостаточности объекта.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу