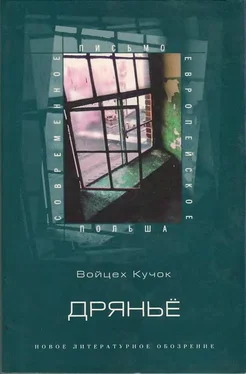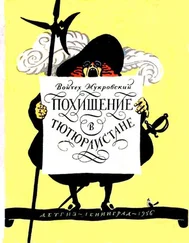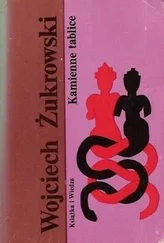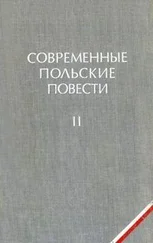Это была очень старая школа, самая лучшая, по мнению старого К., кое-кто из учителей еще помнил его. Он говорил:
— В эту школу ходили я, твой дядя, твоя тетя, и никто никогда не осрамил нашу семью, ты тоже не имеешь права осрамить ее.
Поэтому я очень старался, чтобы только где сраму не наделать, я напрягал зрение и слух, чтобы как можно быстрее и как можно большему научиться, понять, что значит быть учеником этой школы, между тем ничто не бросалось мне так в глаза, как слюна. Слюна учила. Она быстро отучила меня от контакта с перилами, любого, не говоря даже о такой невинной шалости, как езда по перилам, потому что перила в этой школе всегда были заплеванными, липкими от зеленеющей там и сям слюны, этого следствия привычки не только старших, но и младших учеников этой школы высовываться за барьерчик с последнего этажа и плевать в колодец лестничных пролетов вниз, плевать на руки, беспечно скользящие вдоль перил, на руки тех, кто еще не отучился от контактов с перилами; само собой, не каждый плевок попадал в намеченную руку, охота могла быть и неудачной, но сама техника прицеливания мне всегда импонировала, — к примеру, плюющий выцеживал изо рта маленький клейкий кокон, державшийся на стебельке слюны, и позволял ему свободно свисать с губ, пока не наводил его на движущуюся цель, и тогда кокон получал свободу и летел в заданном направлении, не всегда, однако, попадая в неосторожную руку, иногда, несмотря на многочисленность охотящихся, никто не попадал точно, никто не оказывался победителем, зато все плевки попадали на перила, и раньше или позже та самая рука, которой только что удалось избежать метки сгустком-коконом, стирала его с перил, то есть так или иначе получала урок, и эту единственную из наук, которые преподала нам слюна, я постиг и запомнил быстро; на начальном этапе моего образования лучше и быстрее всех учила меня слюна. Казалось, что в этой школе все страдали избытком слюны, беспрестанно и беспричинно избавляясь от нее, как будто все страдали от перманентного слюновыделения; конечно, плевали в основном парни, причем парни особенные, так называемые хахори — шпана со Штайнки, улицы Кладбищенской, которая во время оккупации называлась Каменной, Штайнштрассе, улицы, населенной исключительно бывшими, настоящими или будущими могильщиками и их семьями, улицы алкоголиков, нищих и преступников, совокуплявшихся тем яростней, размножавшихся тем плодовитей, чем больше горя приходилось им мыкать, чем больше в них поселялось безнадеги. Несмотря на относительно небольшое пространство, занимаемое Кладбищенской и ее окрестностями, результаты в деле производства потомства ее жителей были настолько высокими, что полностью сглаживали различия между хахорями со Штайнки и остальными учениками, спешившими на уроки из других районов, рассеянных по отдаленным частям города, остальными учениками из так называемых нормальных семей; можно сказать, что эти остальные, ходившие в эту школу из районов, считавшихся обычными, нормальными и даже безупречными, составляли в этой школе меньшинство, можно сказать, что тон в этой школе задавали страдавшие перманентным избытком слюны хахори с Кладбищенской и ее окрестностей. Заасфальтированный дворик, заполнявшийся толпами ребятни во время большой перемены, был украшен кружочками плевков, обозначающими места, где проходили дискуссии в группках из нескольких человек. Во время этих почти двадцатиминутных разговоров между звонками, говорящий то и дело прерывал свою речь плевками, а слушавшие поддакивали, процеживая сгустки слюны через зубы, и чем больше сплевывали, тем решительней соглашались с говорящим, венцом же такого рода бесед было общее — всех участников разговора — сплевывание на асфальт. После уроков, в своих дворах, у них были еще сигареты. В сущности, в их жизни ничего не менялось, я встречал их много лет спустя, уже взрослых, будто сейчас вижу, как они собираются под домами, становятся в кружок и болтают о движках, фильмах-карате и о гениталиях тут же рядом стоящих и смеющихся женщин; болтают, курят и сплевывают на асфальт, оставляя после себя, как и четверть века назад на школьном дворе, кружки слюны.
Слюна была моей первой учительницей, она призывала меня к порядку, прерывала наши игры, нас, младших, еще пребывавших на этапе подражательства, а потому и игры у нас были те же, что и у старших, у семи- и восьмиклассников, у шпаны с Кладбищенской. Когда мы играли в расшибалку, бросали монеты в выкопанную ямку, слюна скучающего подростка была однозначным сигналом завершения, подростки бестрепетно плевали в наши ямки, так что нам приходилось копать новые, в которые нам также плевали, так что нам приходилось пользоваться втихаря их ямками, учась таким образом конспирации и объединяясь в страхе общей опасности. Слюна первая научила меня не трепаться: когда я принес приятелям показать тетрадь с автографами, когда мы рассматривали ее перед уроком в тесном кругу, отталкивая друг друга, чтобы лучше разглядеть, когда, заинтересованный скопищем, семиклассник подошел и спросил: «Что это у вас там?», когда я услужливо подал ему тетрадь, сообщив с гордостью и достоинством: «Автографы», когда, бросив взгляд на подпись короля бомбардиров лиги, он сказал: «Ништяк», взял тетрадь под мышку и пошел, а я побежал за ним и просил, чтобы он не забирал, просил громко, плаксиво и назойливо: «Ну отдай, ну, пожалуйста, отдай же», когда, наконец пресытившись, он выдал: «Ладно, на» — он, прежде, чем вручить мне тетрадь, плюнул в нее особого замеса зелено-коричневой слизью из-под самого мозга, из самых недр лобных пазух, плюнул прямо на страницу с игроками клуба, после чего закрыл тетрадку, сдавил и благоговейно склеил страницы; слюна была превосходной учительницей. Ее следовало ожидать со всех сторон: прямо в лицо, когда оппоненту недоставало слов; сбоку, потому что тех, кто засыпал на школьных экскурсиях, будили плевком в ухо; сверху, когда по дороге в школу случалось пройти не под тем балконом. Ох уж эта дорога в школу, тогда меня метили сзади.
Читать дальше