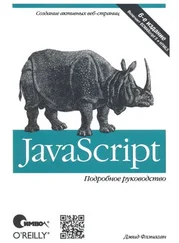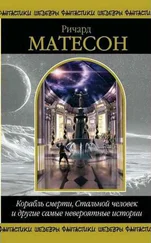Я не чувствовал горя. И тоски. У меня было такое чувство, что какую-то важную часть меня – ноги или руки – отделили от тела и выбросили вон. Как мог я горевать по утрате самого себя? Я и не горевал. Я забегал словно в поисках этой самой оторванной конечности – мне казалось, что она валяется где-нибудь на обочине, что я принесу ее Хуте и дома у нас снова все наладится, круг замкнется, и его уже нельзя будет разомкнуть. Нет, я не горевал. Не мог.
Madonna santa! Откуда у меня такое чувство? Будто меня уничтожает история. Будто прошлое – змеиный яд, парализующий меня конечность за конечностью, орган за органом и медленно разрывающий мой разум на части. У меня, всегда считавшего, что я жил в стране на задворках истории! У меня, лишенного будущего и отрекшегося от прошлого! Я никогда не просил показывать мне эти видения и довольствовался тем, что пребывал в полном неведении, кто я и откуда. Внутри меня как будто все перемешалось, и единственное, что мне остается, так это ненавидеть себя за это. И сейчас все это прошлое прет из меня и, тесня со всех сторон, толкает все дальше в Кипящий Котел, все больше наполняя мои легкие и сознание водой, а мне этого так не хочется: ведь что во всем этом хорошего? Мне надо было бы умереть, как Гарри – угасать медленно, годами, как какому-нибудь пропойце, устраивая пирушки для зверья, с которым видишься под конец недели. Чтобы не чувствовать, как мое лицо беспрестанно терзает и размывает этот прилив из прошлого.
И все же зачем он столько лет зажаривал тонны отбивных и рыбы для призраков?
Быть может, он знал что-то такое, о чем я не догадывался? Впрочем, какая разница, знал я или нет. Прошлое – это кошмар, я хочу очнуться от него, и не могу. Я был по-своему счастлив, когда бежал от всего этого, и теперь вижу, что был совершенно прав. Кто в здравом уме захочет во всем этом признаться? Да и кто поверит в такое? И есть ли противоядие от змеиного укуса прошлого? Любовь. К кому? К чему? Боль в желудке вернулась, но сейчас это просто боль, как будто нутро взорвалось и огонь пошел по всему телу. На дне реки меня пожирает самый страшный огонь. Неужели мне суждено гореть вечно?
И тут среди всепоглощающих языков пламени я различаю флажки.
Горящие флажки!
Над пламенем возвышается Кута Хо, потом у нее из-за спины возникает Аляж – он хватает из огня не успевшие сгореть и частично обгоревшие флажки и удерживает ее, не позволяя бросать в огонь остальные. И спрашивает, в своем ли она уме. Она не отвечает. Аляж продолжает спасать разноцветные сигнальные флажки, поливая огонь из шланга, и спасает большинство из них, кроме семи цифровых вымпелов, которые Кута Хо подожгла первые. Он пытается говорить с нею, но Кута Хо молчит.
Наступает седьмая неделя после их случайной встречи, седьмая неделя с тех пор, как он пошел с Кутой Хо к ней домой после вечеринки в пивной, когда они вдвоем наивно поверили в товарищество, которое можно поддерживать в знак прошлой дружбы, а не истинной любви. Неугасимой любви. Она не позвала его к себе в постель – их сблизила только ложка, которой они по очереди насыпали сахар в кофе, каждый – в свою чашку, и он прекрасно понимал, что просить чего-то большего он не вправе.
Да и как я мог просить чего-то большего? Как будто у меня было право лечь с нею под одно одеяло. Но в тот вечер я понял, что за тринадцать лет наша любовь не угасла, что я по-прежнему любил ее, а она меня и что наша любовь перенеслась в иные пределы – за грань физического желания.
И эта любовь так напугала Аляжа, что он встал, не допив кофе, попрощался и ушел.
Сейчас впервые после того вечера Аляж смог навестить Куту. Она все так же забирает волосы сзади в «конский хвост», однако если в свое время это придавало ей изящества, то теперь как бы подчеркивает ее возраст. Она поправилась – даже больше, чем он сам. На ее лице, хоть и едва тронутом морщинами, но ставшем шире и рыхлее, лежит неизгладимо-унылая печать зрелости. Движения ее, когда-то четкие и уверенные, стали отрывистыми и нетвердыми. Руки, как он успевает заметить, те самые руки, которые когда-то, давным-давно, с такой решимостью обнимали его, теперь двигаются неуверенно быстро. Одежда на ней уже не настолько индивидуальна, как прежде: она серийна, как всякое магазинное платье – такое впечатление, что Кута утратила свойственную юности радость использовать одежду для обозначения своего неприметного места в мире и что теперь главные критерии для нее при выборе платья – удобство и скромность. Она носит большие золотые цыганские сережки, хотя они давно потускнели и больше не сверкают, когда на них падает свет. Он вдруг с горькой досадой понимает, что постарела не она, к чему он был готов, а он сам. Он сожалеет, что они не прожили вместе все эти годы, сожалеет, что не состарился, не съежился, не располнел и не размяк рядом с нею.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу