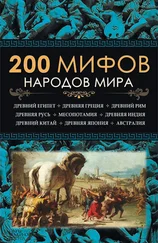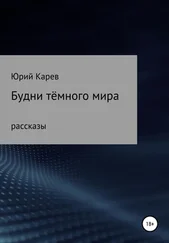Прошел год после торжественного открытия этого памятника павшим под Лангемарком, моим сверстникам, студентам, как и я. "Цвет немецкой молодежи погиб под Лангемарком", учили мы в школе, и никто никогда не подсчитывал, сколько убитых на совести у этого памятника, - у этого и у других, ему подобных. "Биология - наука о жизни, - сказал я, - когда война кончится, я ничего не буду знать о жизни. Только о смерти".
"Не думай об этом, - сказала она. - Тебе повезет, ты вернешься, я уверена. - Она взяла мою руку и положила на свой живот. - Может, у нас тогда уже будет ребенок. А когда ты получишь ученую степень, мы обзаведемся еще пятью. Вместе со мной у тебя будет семь жизней - семь раз биология! - а войну ты забудешь. Забудь о ней и теперь",
Я уставился на нее; мельник Кушк был прав, записав в своей Книге: человек устроен неправильно. И на ступенях памятника в честь битвы, где сто восемьдесят семь тысяч матерей потеряли своих сыновей, я дал себе клятву - не из-за этой битвы и не из-за войны, из которой я только что вырвался и в которую опять возвращаюсь, а из-за Марии - найти и уничтожить проклятую ошибку в матрице человека.
Я встал и пошел куда глаза глядят, оставив позади и памятник, и пустое женское лоно, и фотографию на комоде матери, и тяжесть вопросов на ветвях старой яблони на краю поля, и моровой столб с его каменными символами надежды, оставив позади все, в том числе и тот единственный, заполненный звенящей пустотой день, когда свалили в кучу гипсовые статуи и власть над людьми вновь превратилась в ответственность перед людьми, а я распрощался со всеми своими идолами и дал себе зарок впредь не быть больше никем, а только самим собой.
И все же у меня теперь два "Я", я и Я, я сам и мое отражение в зеркале, я удаляюсь к краю огромной плоскости, которая теперь уже не кожа Марии, - я, сын, любовник, а вероятно, и отец, иду по плоскости одиночества, как Спаситель по пустыне, а мое второе "Я" говорит матери: что мне в тебе, женщина? И отцу: возьми свою жизнь и просей ее годы сквозь крупное сито разочарований. Я посвятил себя великой, величайшей цели, и это второе "Я" отражается теперь в зеркале ванной.
Он отбросил полотенце, подошел вплотную к зеркалу, выключил свет и вновь включил его, еще и еще раз - рефлексы нормальные, в голове ничего не плывет и не качается, не два, а один мозг, самый лучший в мире, вчерашние метания между раем и адом теперь лишь яркий воздушный шарик, проблема, жерновом висевшая на его шее, стала резиновым надувным кругом, с ним на шее можно пуститься в плавание по любому океану, теперь тайфуны и ураганы ему нипочем. Совершенно ясно и не вызывает и тени сомнения то, что его открытие принадлежит ему, только ему одному, и никому больше, и что никто - ни его ассистенты, ни кто-либо из сотрудников его научного института, ни комиссии, ни коллеги, ни власти - не имеет ни малейшего права рассчитывать на какую-либо информацию о его открытии, не говоря уже о детальном знакомстве в полном объеме, пока он сам этого не пожелает.
А до той поры пусть удовольствуются тем, что получат результаты его исследования о регенерации поврежденных генов, превознесут эти результаты как "веху на пути к разгадке тайны жизни" - так их назвали в одной из официальных речей - и дадут ему, Яну Сербину, Нобелевскую премию.
Никто не должен знать, что к тому времени, когда были опубликованы эти результаты, он ушел уже далеко вперед по "пути разгадки". Смешно, конечно, что они присудили ему эту премию за такую безделицу, за такой, в сущности, пустяк по сравнению с его новым открытием. Правда, теперь ему казалось смешным и то, что он чуть было не уничтожил найденную формулу.
Все это теперь как-то подернулось туманной дымкой и лишь с трудом восстанавливалось в памяти, как будто речь шла о ком-то постороннем: был человек, который открыл возможность не только ограниченного воздействия на определенные гены, но и целенаправленного вмешательства в самую сущность человека и держал в руках "счастье" в трактовке Чебалло, но затем, осознав возможные последствия своего открытия, окаменел от ужаса, как жена Лота, обратившаяся в соляной столб после того, как оглянулась и узрела огненный дождь, испепеливший Содом и Гоморру.
Рай или ад, вопрошал себя тот человек; за короткое или долгое, никем не измеренное время, пока обдумывал этот вопрос, он постарел на годы, соизмеримые с трудностью вопроса.
Теперь, сидя на краю ванны и тщательно вытирая полотенцем ноги, он мог бы еще вполне точно реконструировать свои тогдашние мысли, но они остались бы лишь абстрактными мыслями, лишенными всякого нравственного содержания, - как если бы, глядя на луну, начать прикидывать, на что можно употребить этот вечный спутник земли, если бы вдруг получить его в подарок.
Читать дальше